Карамзин, как известно, противником цензуры не был. Среди современников был известен его «парадокс» о том, что «если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь». Известно также, что интерес историка был опосредован «Письмом о цензуре» аббата Гальяни[607]. Утверждение аббата, что искусство писателя состоит в том, чтобы сказать «всё» и не попасть в Бастилию, было особенно близко Карамзину, который верил в спасительную силу цензуры от дураков и возмутителей общественного порядка[608]. При этом сам Карамзин как никто из современников умел сказать «всё» и при этом в «Бастилию» не попасть[609]. Пушкину и в этом отношении до Карамзина было очень далеко.
Вызывает удивление то обстоятельство, что, притом что статья «Александр Радищев» исполнена строгой критики автора «Путешествия», опосредованной Карамзиным, она вместе с тем содержит пушкинскую оценку Радищева, которая парадоксально сближает обоих писателей:
Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а Путешествие в Москву весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию (XII, 32–33).
Представляется, что «рыцарская совестливость» Радищева вполне сродни «подвигу честного человека» Карамзина и оба писателя, каждый по-своему, реализуют близкий Пушкину тип писательского поведения, основанного на независимости от власти и читательской публики, залогом которой является писательская «честность».
В настоящее время общепризнано, что очень многие оценки, которые Пушкин относил к Радищеву в своей одноименной статье, имели автобиографический характер[610]. Получается, таким образом, что бедный, гонимый и неразумный Радищев воспринимался Пушкиным как не менее близкий персонаж, чем «мудрец» Карамзин (Ксенофонт Полевой вспоминал, что «Пушкин находил ‹Карамзина› безусловно мудрым и совершенным»[611]).
Стихотворение «Из Пиндемонти», написанное в самый разгар цензурных трудностей Пушкина, отражает, в числе прочего, усталость, наступившую после борьбы с цензурой за первые тома «Современника»:
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Вместе с тем цитированные выше строки характеризуют недостижимый для Пушкина и доступный одному Карамзину идеал. Именно тем обстоятельством, что Карамзин олицетворял для Пушкина и писателей его круга идеал писательского счастья, и определяется, на наш взгляд, глубина карамзинского подтекста стихотворения. Карамзин был воплощением идеала счастья для Пушкина и его ближайших друзей, А. И. Тургенева, П. А. Вяземского и В. А. Жуковского, потому что он не только манифестировал этот идеал (кто только его не манифестировал!), но единственный из русских писателей его воплотил. «Мне кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы все поем вполголоса и живем не полною жизнью; оттого и не можем быть вполне довольны собою», — писал Александр Тургенев Вяземскому. Вяземский соглашался: «Карамзин… создал себе мир светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства»[612]. Эту же мысль выразил Жуковский:
«Я благодарен ему (Карамзину. — И. Н.) за счастие особенного рода: за счастие знать и (что еще более) чувствовать настоящую ему цену. Это, более нежели что-нибудь, дружит меня с самим собою. И можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все что есть во мне доброго и лучшего»[613]; «Карамзин — в этом имени было и будет все, что есть для сердца высокого, милого, добродетельного. Воспоминание об нем есть религия. Такие потери могут делать равнодушным только к житейскому счастию, а не к жизни. Кроме счастия есть в жизни должность»[614].
Гоголь, написавший о Карамзине в «Выбранных местах», оставил портрет писателя, как будто бы составленный из концептов пушкинского стихотворения «Из Пиндемонти»:




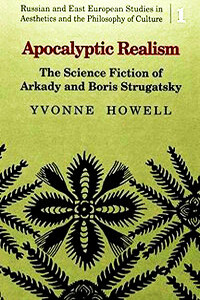
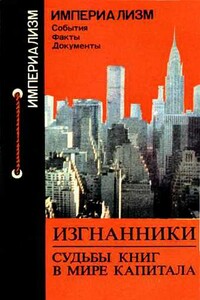
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)