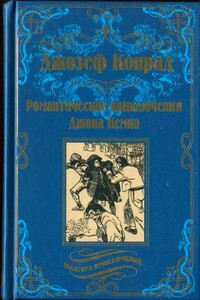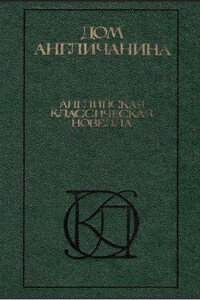Темная то была история. Она была больна в то время как он ее увез, и умерла на борту его шхуны. Говорят (и это самое удивительное в истории), что над ее телом он неудержимо рыдал, и вскоре после этого счастье ему изменило. Он потерял свою шхуну, разбившуюся о скалы неподалеку от Малаиты, и на время исчез, словно вместе со шхуной пошел ко дну. Затем он вынырнул в Нука-Хиве, где купил старую французскую шхуну, раньше принадлежавшую правительству. Не могу сказать, какую цель он преследовал, делая эту покупку, но ясно, что с появлением комиссаров, консулов, военных судов и международного контроля в южных морях стало весьма небезопасно для джентльменов его сорта. Очевидно, он должен был передвинуть свои операции дальше на запад, ибо через год он играет невероятно дерзкую, но не особенно выигрышную роль в полусерьезном, полукомическом деле в Манильском заливе, где главными героями являются нечистый на руку губернатор и скрывающийся от преследования казначей. Затем он, по-видимому, шныряет на своей гнилой шхуне среди Филиппинских островов, сражаясь с вероломной фортуной, и, наконец, следуя по предназначенному ему пути, вступает в историю Джима.
Рассказывают далее, что когда испанский сторожевой катер захватил его, он пытался всего-навсего доставить немного ружей инсургентам. Если так, то я не могу понять, что же он делал у южного берега Минданао. Мне лично кажется, что он шантажировал туземцев прибрежных поселений. Как бы то ни было, но катер, поместив своих людей на борт шхуны, заставил его держать курс по направлению к Замбоанге. По дороге оба судна должны были по какой-то причине заглянуть в одно из этих новых испанских поселений, из которых так и не вышло никакого толку. Там находился не только правительственный чиновник на берегу, но и хорошая каботажная шхуна, лежавшая на якоре в маленьком заливе; и эту шхуну, размерами значительно превосходящую его собственное суденышко, Браун решил украсть.
Ему не везло, как он сам мне признался. Мир, который он в течение двадцати лет яростно презирал, не доставил ему никаких материальных благ, за исключением небольшого мешка с серебряными долларами, спрятанного так, что «сам черт не пронюхает». И больше ничего. Решительно ничего! Жизнь ему надоела, и смерти он не боялся. Но этот человек, который готов был с горьким нелепым зубоскальством рисковать жизнью ради пустяка, боялся тюрьмы. При мысли о тюрьме его охватывал тот безумный ужас, когда человек обливается холодным потом, дрожит, и кровь его словно обращается в воду, — такой ужас испытывают суеверные люди, представляя себе объятия призрака. Вот почему чиновник, который явился на борт для предварительного расследования, усердно занимался этим делом целый день и сошел на берег лишь в сумерках, закутанный в плащ и крайне озадаченный тем, чтобы не звенели в мешке доллары Брауна. Затем, верный своему слову, он отослал, кажется, вечером на следующий день, сторожевой катер, дав ему какое-то неотложное поручение. Командир, не имея возможности оставить на шхуне Брауна своих людей, удовлетворился тем, что перед отплытием убрал до последнего лоскута все паруса на суденышке пирата и подвел свои две шлюпки к берегу, находившемуся на расстоянии двух миль.
Но среди матросов Брауна был один туземец Соломоновых островов, завербованный в юности и преданный Брауну; этот парень был самым отчаянным во всей команде. Он проплыл около пятисот ярдов до каботажного судна, держа конец кабельтова, который удалось смастерить, причем на этот кабельтов пошел весь бегучий такелаж шхуны. Было совсем тихо, и в заливе так темно, «как в брюхе у коровы», по выражению Брауна. Островитянин перелез через бульварк, держа в зубах конец каната. Команда каботажного судна (все тагалы) была на берегу, развлекаясь в туземной деревне. Два матроса, оставшиеся на борту, внезапно проснулись и узрели дьявола: он сверкал глазами, и, быстрый, как молния, прыгал по палубе. Парализованные страхом, они упали на колени, крестясь и шепча молитвы. Длинным ножом, найденным в камбузе, островитянин, не прерывая их молитв, зарезал сначала одного, затем другого; тем же ножом он терпеливо стал перепиливать канат из кокосовых волокон; наконец, перерезанный канат с плеском упал в воду. Тогда в молчании залива он тихо крикнул; банда Брауна, таращившая между тем глаза и напрягавшая слух в темноте, начала подтягивать свой конец кабельтова. Меньше чем через пять минут скрипнули мачты, легкий толчок, — и обе шхуны очутились рядом.