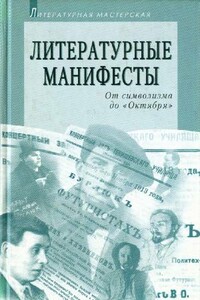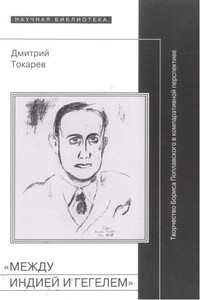В рассказе о жертвоприношении Исаака Авраамом мы видим жертвенник, двойников (Исаак, которого Авраам собирался принести в жертву, – и агнец, принесенный в жертву вместо него), ритуальный нож.
В рассказе об Иоанне Крестителе мы видим двойников (Иисуса Христа и Иоанна Крестителя), Святую Троицу (в момент крещения Христа), нож, отрезавший голову Иоанна.
В рассказе об аресте Иисуса Христа в Гефсиманском саду мы видим двойников (Христа и Иуду) – и меч. То, что Иисус и Иуда – двойники-антиподы, хорошо видно и по тому, как во время Тайной вечери Иисус обращается к Иуде,[153] и по поцелую Иуды, и по тому, что Иуда находит смерть на дереве (в то время как Иисус умирает на кресте – «мировом древе»).
«Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».
Ритуальный нож проявился не только в этом мече, но и, видимо, в копье, которое римский солдат вонзил в бок распятого Христа. Интересно, что есть апокрифическая легенда (пусть довольно нелепая), связывающая рану от копья с Иудой (то есть копье – с двойником). Согласно апокрифу «Арабское евангелие детства Спасителя», Иуда Искариот жил в одном селении с Иисусом и был одержим сатаной. Когда мать привела его на лечение к маленькому Христу, Иуда, разозлившись, укусил Иисуса за бок, после чего разрыдался и был исцелен. «И тот бок Иисуса, который ему Иуда поранил, иудеи потом копьем пронзили».
В поэме «Германия. Зимняя сказка» Генрих Гейне рассказывает, как ему является двойник-тень с топором. И находит рациональное, «практически-трезвое» объяснение, зачем нужен топор. Он пригодится, чтобы вырубать все отсталое и безобразное из нашей общественной жизни, это топор революции:
Я сам, засидевшись в ночи у стола
В погоне за рифмой крылатой,
Не раз замечал, что за мною стоит
Неведомый соглядатай.
Он что-то держал под черным плащом.
Но вдруг – на одно мгновенье —
Сверкало, будто блеснул топор,
И вновь скрывалось виденье.
Он был приземист, широкоплеч,
Глаза – как звезды, блестящи.
[154]Писать он мне никогда не мешал,
Стоял в отдаленье чаще.
Я много лет не встречался с ним,
Приходил он, казалось, бесцельно,
Но вдруг я снова увидел его
В полночь на улицах Кельна.
Мечтая, блуждал я в ночной тишине
И вдруг увидал за спиною
Безмолвную тень. Я замедлил шаги
И стал. Он стоял за мною.
Стоял, как будто ждал меня,
И вновь зашагал упорно,
Лишь только я двинулся. Так пришли
Мы к площади соборной.
Мне страшен был этот призрак немой!
Я молвил: «Открой хоть ныне,
Зачем преследуешь ты меня
В полуночной пустыне?
Зачем ты приходишь, когда все спит,
Когда все немо и глухо,
Но в сердце – вселенские чувства, и мозг
Пронзают молнии духа?
О, кто ты, откуда? Зачем судьба
Нас так непонятно связала?
Что значит блеск под плащом твоим,
Подобный блеску кинжала?»
Ответ незнакомца был крайне сух
И даже флегматичен:
«Пожалуйста, не заклинай меня,
Твой тон чересчур патетичен.
Знай, я не призрак былого, не тень,
Покинувшая могилу.
Мне метафизика ваша чужда,
Риторика не под силу.
У меня практически-трезвый уклад,
Я действую твердо и ровно,
И, верь мне, замыслы твои
Осуществлю безусловно.
Тут, может быть, даже и годы нужны,
Ну что ж, подождем, не горюя.
Ты мысль, я – действие твое,
И в жизнь мечты претворю я.
Да, ты – судья, а я палач,
И я, как раб молчаливый,
Исполню каждый твой приговор,
Пускай несправедливый.
Пред консулом ликтор шел с топором,
Согласно обычаю Рима.
Твой ликтор, ношу я топор за тобой
Для прочего мира незримо.
Я ликтор твой, я иду за тобой,
И можешь рассчитывать смело