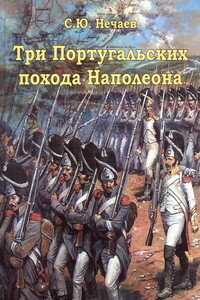Что, он в плену? Конвойные гонят, безоружного и бессильного? Куда гонят? В лагерь, в тюрьму. А может, и расстреляют. Он же лейтенант, комсостав, член ВКП(б). И документы все при нем, в левом кармане, нагрудном, у сердца…
Сошли с тракта, потащились по большаку, тоже обсаженному черешнями, — к лесу. Куда все-таки идем? Солнце то слева, то справа, то бьет в зрачки. И от этого чередовалия еще невыносимей кружится голова. Лес, синий, густой, зовущий тенью, вставал впереди, приподнимаясь и расширяясь постепенно. Там, едва вступили в застойные, душные тени берез и кленов, все и случилось.
Ей-богу, я не ожидал этого. Плелись, плелись — и стрельба. Немцы, по-моему, тоже были поражены. Если по порядку, то так: шкандыбаю, лейтенанта поддерживаю, и он шкандыбает. Честно: если бы не Митька, я б один не управился с лейтенантом, шибко худо было ему временами. Вроде без сознания, глядит как сквозь пленку какую, либо вовсе не видит, однако ноги переставляет. Упаси свалиться либо отстать, таких пристреливали. Пятерых уже пристрелили. Мы ушли, а те, пятеро, остались валяться на дороге, у обочины. Немцы шли в основном впереди колонны — человек шесть, по одному по бокам, и двое сзади. Может, я потому и боялся обернуться, что и за спиной были немцы? Тогда я не думал про это. Думал: господи боже, черт-дьявол, ну сделайте что-нибудь, чтобы нам спастись. Бог или черт, пособите бежать, ну что вам стоит? Честно: надеялся, что-нибудь сделается так, что сумеем утечь. И когда услыхалась пальба, смикитил: вот оно! Стреляли из лесу по передним конвойным, те враз начали отвечать очередями. Пленные попадали, чтоб не схлопотать чью-то пулю. Немцы, которые шагали сбоку и позади нас, побежали вперед. Стрельба, крики, неразбериха. Начальник заставы кричит:
— Павло, в лес!
Машет рукой и ползет к обочине. Я враз смикитил: под шумок смыться! Машу Митьке: за нами давай. А он лежит, как пригвожденный, зыркает, но не ползет. Испугался, пережидает или еще что-то. Скатились мы в канаву, а по ней — дальше, дальше. После начальник заставы поднялся и, пригнувшись, перебежал в чащобу. Я за ним. А на большаке и с другой стороны леса пуляют, шумят. Лейтенант ломит по кустарнику, вот-вот упадет, однако не падает. Потому замаячила свобода, тут и мертвый встанет и побежит! А мы ж живые! И мы ломили через кусты, как медведи. Ветки хлещут, сучки царапают, кровенят. Поскорей и подальше, вглубь, вглубь! Не гонятся ли за нами? Вроде бы скрозь наш треск слышу чужой. Вроде бы кто-то ломит следом. Нет, это чепуховина, это только мерещится. Мы одни. Но когда остановимся?
И лишь подумал я так, лейтенант рухнул. Подбегаю: стонет, хрипит, на губах пузырится пена. Приподымаю ему голову, сую фляжку. Отпивает, откидывается. Сам пью и опускаюсь, почти падаю на мох. Сердце — как колокол. Мерещится: его могут услыхать немцы. Хоть и не погнались за нами, но остаются где-то там, на большаке, не так уж далеко. А ежели хватятся? И пойдут по нашим следам да с овчаркой? Ну, овчарки, положим, у них нету. Так и без нее могут настигнуть. Надо дальше уходить. Но и встать сейчас не смогу. А может, и еще кто из пленных дал деру? Почему бы и нет при таком шухере, который кто-то устроил немцам? Не мы же одни такие умные. Митька, дурак, остался, не побежал. Начальник заставы хрипеть и стонать стал потише, морщится только сильно. От боли, видать, от усталости. А мне что, не больно, не ранен я? Не голоден, не вымотан?
Будто только что осознал: на свободе! Как хмелем ударило, повеселел, заулыбался. Начальник заставы глядит ровно бы с удивлением, а у меня, чую, рот до ушей. Да и начальник-то хоть удивляется на меня, но тоже, видать, переживает, что мы вызволились из плена. Радуется то есть. Только этого незаметно. Шибко уж он измученный. И я измученный, но радость подправляет. В подлеске пахло смолой. И сквозь деревья видно синее небушко. Живы! Нету плена, нету гадства, унижения, позора. Выручили нас. Не то что выручили, однако пособили — это точно. Перестрелка, шумок, а мы ходу. Вот подумал я давеча про бога и черта, что они помогут нам, и помогли, не так разве? Я сказал об этом лейтенанту, он усмехнулся. Но, может, не усмехнулся, а скривился, сморщился? От боли? Я сказал:




![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)