Их повели по селу. Солнце било в зрачки, проезжавшие машины обдавали бензиновой вонью и пылью, шоферы, высовываясь, орали что-то конвоирам, и те что-то орали им, и все немцы улыбались, хохотали и, казалось, приплясывали. Казалось, это, может быть, потому, что шоферов в кабинах подбрасывало, а конвоиры нетерпеливо переминались, — колонна плелась, немцы же хотели поскорей отвести куда приказано. И они то поджидали колонну, то принимались подгонять прикладами. Было больно и стыдно, что с тобой обращаются, как со скотиной, — под взглядами волыняков из окон, дверей, садов. Скворцов отводил глаза, но ему представлялось, что в тех, чужих глазах и сочувствие, и равнодушие, и мстительность — что хочешь. С иных дворов в колонну бросали злобные и подлые слова, — так вам и надо, москали! — с других бросали краюхи хлеба, шматки сала, вареные картофелины. Немцы не препятствовали сердобольным бабам. А пленные ловили еду или подбирали ее в пыли, делили на части, глотали, не прожевывая. И Скворцов проглотил, не разжевав, хлебную корочку, которую сунул ему конопатый младший сержант, и картофелину, которую сунул Лобода.
— Крепитесь, товарищ лейтенант, — говорил Лобода. — Поприбавится пороху… Какой-никакой харч… Хотя, честно, после него на жратву еще шибче повело…
Рыжий пехотинец ничего не говорил, но от его мягкой и хваткой руки Скворцову становилось чуть спокойней. Лобода продолжал распространяться:
— Бой не так страшен, как голод. В бою что? Ну, шпокнут тебя, и привет. Верно?
— Шагай. — На это слово у Скворцова достало сил.
— А мы что делаем? Шагаем… Только вопрос: куда и зачем?
Суесловил Павло. Куда и зачем, ясно же. Лучше б помолчал, поберег силы. Вот младший сержант молодец, помалкивает. И тут младший сержант сказал:
— Товарищ лейтенант, это ж ужасно, человек человека убивает. Настанет ли время, когда на земле не будет смертоубийства?
— Когда-нибудь настанет, — ответил Скворцов, понимая: нужно ответить. — Но не скоро настанет.
Село осталось позади, и желто-серый проселок, как выцветшая обмотка, раскатился по холмам. Холмы были безлесные, в чересполосице капусты, картофеля, ржи, кукурузы, гороха. Все было съедобно: капустные листья, картошка, початки, а горошины и зерно можно вышелушить, — зеленое, сырое, но съедобное! Набить бы брюхо! Но свернешь с проселка — получишь пулю, вон одного, шагнувшего в горох, немцы пристрелили. Нет, я еще потягаюсь со смертью, еще повоюю. Только бы не оступиться, не упасть. Только бы товарищи не покинули.
С проселка повернули на тракт — каменные плиты были накатаны, черно блестели, как смазанные маслом, и будто поэтому ноги еще больше скользили, разъезжались. По тракту грохотала танковая колонна, и черешни по обочинам в испуге подрагивали листочками. Скворцов скользил подошвами, подламывался в коленях, но он был почти равнодушен к танкам, скрежещущим, ревущим, рождающим вихри. Подбеленные стволы, ветки и листики подрагивали, а плодов не видать: проезжие и прохожие попользовались, птицы склевали. Блеснул пруд, и пленные посыпались к нему с насыпи. Конвойные орали, били прикладами, протарахтела предупредительная очередь, но остановить людей было нельзя. Им, полсуток не сделавшим глотка, вода была важней, чем жизнь. И немцы это поняли, смирились. Скворцов стоял на коленях, зачерпывал теплую мутную воду и пил, пил. Пил, будто ел, — набивал живот водой. И голод будто приглох. От пруда отрывались отяжелевшие, со вспученными животами, кто имел фляги — наполнил. Карабкались на насыпь, подгоняемые теми же криками и ударами конвоиров. На тракте кое-как построились в колонну — и задвигались, заколыхались. И на этот раз Скворцов, Лобода и рыжий пехотинец, которого звали Митей, оказались в последних рядах. Солнце жгло, выпитая вода выходила потом, заливало глаза. Вода в брюхе булькает в такт шагам. И словно та же вода струится перед взором — над трактом, на весу. И Скворцов, что бредет в толпе пленных, задыхающийся, скрюченный, вспоминает: рубит строевым на плацу, а оркестр сверкает медью, а курсанты поют в лад трубам. И старшина-сверхсрочник, перекрывая пение, командует: «Р-раз! Р-раз! Р-раз, два, три! Левой, левой!» Курсант Скворцов тянет носок, впечатывает подошву в асфальт, преданно косит на старшину, поет во всю глотку. И уж как ему хорошо: майские кумачи, медь оркестра, на трибуне училищное начальство, перед трибуной рубят строевым будущие пограничные командиры.





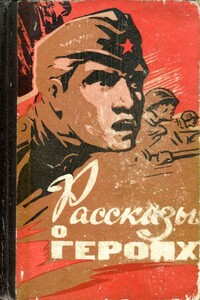

![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)