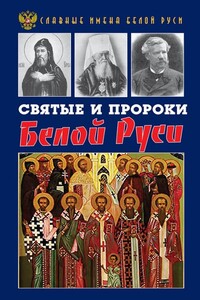За дальнейшими событиями я следила уже из Америки. Я видела, как ГКЧП пытался отстранить от власти Горбачёва и как путч провалился; как люди вышли на улицы, а Борис Ельцин, в ту пору президент РСФСР, возглавил их движение. Я видела, как распался Союз и как граждане России приветствовали рыночную экономику; видела, как обернулась анархией посеянная Ельциным мечта, а он сам из партийного аппаратчика превратился в царя-самодура. И из Америки я наблюдала за приходом к власти олигархов — людей, которые, благодаря своим связям, получили жирные куски от пирога приватизированных национальных ресурсов, в то время как сбережения моей семьи и других простых людей растаяли у них на глазах.
Вновь в Москве у матери я оказалась в канун Нового, 1999 года, в тот самый день, когда Ельцин — больной и немощный, превратившийся в объект всеобщего презрения — объявил о своей отставке. Был холодный зимний день, шёл снег. Когда я переступила порог нашей московской квартиры[12], мама смотрела по телевизору выступление Владимира Путина, в котором новый президент обещал бороться с олигархией, соблюдать верховенство закона и не занимать свой пост ни на день дольше разрешенных Конституцией двух четырехлетних сроков.
― Он производит впечатление умного и достойного человека, разве нет? — сказала мама.
― Он в прошлом полковник КГБ, — ответила я. — А бывших агентов не бывает.
― Нет, он же из Санкт-Петербурга, нашего окна в Европу. Он молодой, всего сорок восемь лет, да и вообще, кто угодно лучше, чем Ельцин, — привела мама аргумент сторонников традиционного русского верования, что следующий царь непременно будет лучше предыдущего.
Я помотала головой.
― Ельцин, конечно, был продажным и даже очень, я уверена[13]. Он пил и как президент недостойно вёл себя, но при нем были свободные выборы, свобода слова. Вот увидишь, Путин будет вторым Брежневым, если не Сталиным. Его неограниченная власть породит неограниченную коррупцию.
Тогда я так не сказала, но у меня было предчувствие, что путинское пребывание у власти не сулит ничего хорошего нашей семье и наследию деда.
Мой прогноз вскоре подтвердился. Данное президентом при вступлении в должность обещание вернуть россиянам самоуважение после анархии ельцинской эпохи, похоже, было тревожным звонком из нашего деспотичного прошлого — от его «вертикали власти» до контроля над СМИ и выборами. И что ещё хуже, две трети граждан страны, пережив невозможный переходный период, были уверены, что посткоммунистические реформы принесли России больше вреда, чем пользы[14]. Приученные считать государственные интересы выше личных, половина населения страны жаждали возврата к твердому, сталинскому, типу руководства и скорбели по утраченному «статусу великой мировой державы»[15]. Они словно бы говорили: «Да, нас расстреливали и сажали миллионами, зато какими грандиозными были наши победы и военные парады!» Многие добровольно отказались от свободы в обмен на путинские гарантии «стабильности и порядка», что уже тогда я воспринимала как новую форму ГУЛАГ а — не место с колючей проволокой и охранниками на вышках, а ГУЛАГ русского сознания, невидимую тюрьму внутри всех нас.
Беспокоясь за наше демократическое будущее, я начала публиковать синдицированную колонку, где обращала внимание на параллели между путинским стилем руководства и стилем руководства Брежнева и Сталина. Одна моя статья появилась и в московской либеральной газете «Коммерсант», в рубрике 'No Comment'.
Я была польщена признанием и гордилась собой — в отличие от моей мамы. Она позвонила мне из Москвы и недовольно заявила:
― Перевод ужасный. И на последней странице. Теперь, когда вокруг растет публичное одобрение сталинских методов правления, все ненавидят Хрущёва.
― Газета не виновата, — ответила я. — Ты придираешься. У переводчиков вечно цейтнот. 'No Comment' всегда бывает на последней странице. А Хрущёв у меня в статье даже не упомянут.
― Ещё как упомянут! — воскликнула мама. — Над ней его фамилия!
Она имела в виду строку в начале статьи с указанием имени автора. Но после двадцати лет, что я её носила, это была уже не только его, но и моя фамилия. До этой книги я редко писала о дедушке. При этом большинство читателей воспринимали мои статьи, как если бы сам Хрущёв говорил с ними из могилы, и в моей критике Сталина они увидели своеобразное дежавю его секретного доклада.