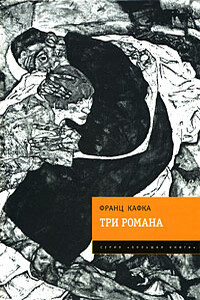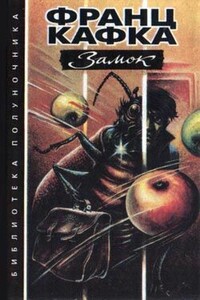Процесс - страница 109
Герметическое оформление текстов Кафки вводит в соблазн, побуждая не только абстрактно сопоставлять их идею с историей, как это в обширных прениях сторон делается у него самого, но и с общедоступным глубокомыслием вытягивать само его творчество из истории, как секрет из железы. Однако именно в качестве герметического его творчество было частью литературного процесса десятилетия, на которое пришлась Первая мировая война; одной из «горячих точек» этого процесса была Прага, а питательной средой — окружение Кафки.
Только тот, кто прочтет «Приговор», «Превращение», главу «Кочегар» в контексте черных брошюр «Судного дня» Курта Вольфа,[79] только тот воспримет Кафку в аутентичной перспективе — в перспективе экспрессионизма. Эпический гений Кафки заставлял его старательно избегать экспрессионистской языковой жестикуляции, однако такие фразы, как «Пепи, гордо вскинув головку, с косой, отлетавшей при каждом повороте, и неизменной своей улыбочкой носилась взад и вперед, преисполненная сознания своей значительности…»[80] или «К. вышел на крыльцо, свирепо обдуваемое ветром, и взглянул в темноту»,[81] показывают, что он великолепно владел этой техникой. Фамилии оставленных безымянными персонажей (особенно в малой прозе, например: Wese, Schmar)[82] составляют ряд, напоминающий список действующих лиц экспрессионистской пьесы. Язык Кафки нередко дезавуирует содержание, причем так же смело, как в этом упоительном описании маленькой эрзац-служанки в пивной: живой язык денонсирует соглашение с безнадежно застойным сюжетом; такие жесты имеют далеко идущие последствия. Устраняя сон его всепроникающим присутствием, эпик Кафка следует экспрессионистскому импульсу, доходя до крайностей радикальных лириков. Его произведения говорят тоном ультралевых, отличающимся от общечеловеческого; тот, кто нивелирует это различие, уже конформистски фальсифицирует Кафку. Уязвимые формулировки, вроде «трилогия одиночества», сохраняют свое значение постольку, поскольку выделяют необходимую предпосылку любой фразы Кафки. Герметический принцип есть принцип, венчающий отчужденную субъективность. Не зря в тех контроверзах, о которых сообщает Брод,[83] Кафка противился всякому социальному вовлечению (только вследствие этого сопротивления оно и стало в «Замке» тематическим). Он ученик Кьеркегора только в одном — в «безобъектной аутичности»,[84] и в ней объяснение его крайностей. То, что заключает в себе стеклянный шар[85] Кафки, единообразнее и поэтому еще ужаснее, чем окружающая его система, ибо в абсолютно субъективном пространстве и абсолютно субъективном времени нет места ничему, что могло бы нарушить собственный принцип — принцип бескомпромиссного отчуждения. Пространственно-временной континуум «эмпирического реализма» постоянно нарушается актами мелкого саботажа — как перспектива в современной живописи, — скажем, когда блуждающий вокруг Замка землемер вдруг оказывается застигнут слишком рано упавшей ночью. Безразличие автаркической субъективности усиливает ощущение неопределенности и монотонность вынужденных повторов. Крутящейся в себе без сопротивления аутичности не дано остановить это дурно-бесконечное движение и не дано понять, что же все-таки могло бы его остановить. Пространство Кафки зачаровано; заключенный в себя субъект затаивает дыхание, словно ему нельзя и касаться того, что не такое, как он сам. Под действием этих чар чистая субъективность оборачивается мифологией, последовательный спиритуализм — подчинением природе. Необычная склонность Кафки к «чистоприродному» и натуропатии, его — пусть даже частично терпимое — отношение к диким суевериям Рудольфа Штейнера