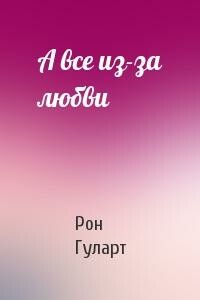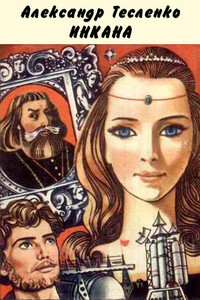– А чего с ей беседовать? Они ни зги не кумечет, ни за политику, ни про чего. Так иногда, раз в нуделю на печке стренимся, потремся, да и спать. А чтоб беседы травить, на то я здеся, на работе. Толстая подлюка, картоху еще содит!
– А хорошее ли у тебя таксо, дедушка? – спросил я.
– Куды ж лучше по тутошним местам. Вам докудова, садись, эх прокачу. Ничего не возьму, курева, али спирту дашь, деньгу тож берем… баллу.
«Забыл спирт в келье!» – с тихим бешенством подумал я о себе.
– Нам, дедушка, до тридцать седьмого кордона.
– К железке, чтоль? Во-о-на, там, – кинул старик кривой палец к виднеющейся вдали, устроенной в стиле римского классицизма развалине. – Туды запрещено. Туды дороги нету, только ежли на таксо…
Мы пошептались с подругой. Старик обиженно насторожился:
– Нету у нас ничевось. Баллов ваших. Нам без надобностей. Мы с травы живем, сяло. Коли чего есть, давай.
Я порылся в рюкзаке, дед зорько наблюдал за мной:
– Тряси, тряси, там чего у тебя гожее. Фонарь могу, веревку тож. Книга чего это, с картинками?
– С буквами. На иностранных языках.
– Тады не беру. Глаза чтой-то плохо с буквами.
– Фонарь не отдам, – покачал я головой.
Тоня открыла свой рюкзачок, порылась и протянула мне большое красивое золотое кольцо с огромным бриллиантом. Она наклонилась к моему уху и сказала тихо:
– Семейное, мама дала, – и густо покраснела.
– Вы че, ездоки, шепчесся, – забеспокоился селянин. – Ежели чо задумали, у меня в штанах топор.
– Дедушка, – сказал я мирно. – Продай лошадь с телегой, нам нужно.
Старик покряхтел, поерзал, сполз с телеги и перекрестился:
– А чего дашь?
– Вот, – показал я ему кольцо. – Золото и бриллиант чистой воды.
Старик перекрестился опять:
– Вещь видная. Но цана ей копейка. Эх, – крякнул, – отдам усе! Могу дать! А кобыла-то вон, – огрел он ладонью бок зверя. – Хороша, скочет. А телега вон, колесы. Не гляди, что шатучие, сноса нет. Не-а, – отказал он. – Нам эти бирюльки чего. Марья, толстая разнарядится, будет тута у мене форс давить, ага.
– Ну и катись, – сказал я. – Так дойдем.
– Постой, постой, кормилец! – закричал старик. – Отдам! Отдам, душу твою сожри домовой! Ни тебе, ни мене. Докидывай фонарь, веревку, галеты, сумку докидай, и по рукам. Эх была-не была. Кофту вон с бабы дай, пушистую.
– Кофту могу вместо рюкзака, розовая шерсть лучшей новозеландской ламы. Перуанской, – сообщила Антонина, с опаской подходя к пахучему деду.
– Хламы? – осторожно заинтересовался старик. Пощупал материю и сказал: – Сымай. Марье к яблочному поднесу. Пущай ходит, толстая подлюка. Знает, каво любит. А говорить с ей все одно не буду. Чо с ей говорить? Фонарь давай с вервием.
Тоня отошла, стянула из-под курточки кофту и запахнулась потуже.
– Нет, это уж жирно будет, – возмутился я. – Фонарь от навоза работает, вечный. Кассета с покойником тебе не нужна?
– Бирюльку твою не взял, нас за его еще за жопу посодют, а фонарь давай. Ночью выйдет Мария до ветру, я ей прожехтер буду. Она с хохоту обмочится.
На том и сговорились, пришлось отдать фонарь. Мы сели в теплое сено телеги, чуть тронули, а старикан побежал немного за нами, все причитая:
– Нам чего теперя таксо… Конь-то больно хорош. Огонь. Не дымный. Бока чисть, хозяин. Кобыла со звоном, ух…
И еще долго махал нам издали кепкой и тер глаза.
К тридцать седьмому кордону мы прибыли затемно. Я привязал лошадь, как мог, мне помогала моя девушка, которая в детстве, оказывается, год занималась выездкой под чуткой упряжью мамаши. И мы вступили в темную, молчащую, напоминающую выбитыми стеклами слепца, громаду здания кордона.