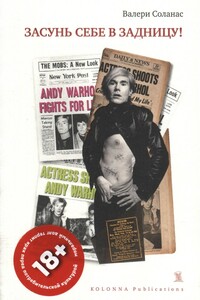Меня страшно раздражают обложки романов с кадрами, демонстрирующими исполнителей главных ролей из экранизации книги. Например, снимки Жерара Филипа повторяют бессчетное количество раз, так как всем кажется, что его лицо более остальных подходит для воплощения образа главного героя. Я хочу читать «Идиота», я хочу читать «Красное и черное», но я не хочу, чтобы это лицо (которое, тем не менее, мне симпатично) постоянно напоминало о нем, сообщая мне каждый раз, когда я беру книгу: «Князь Мышкин, Жюльен Сорель — все это я, не забывай об этом», тогда как я склонен (и это одно из самых сильных удовольствий, которое я испытываю при чтении) медленно составлять их образ из повествования Достоевского и Стендаля. Князь Мышкин и Жюльен Сорель, вот кого я хочу, и может сложиться так, что в какой-то момент я сам пожелаю быть ими, поэтому я отрезаю обложку книги или же, рискуя ее изуродовать, оборачиваю чистой непрозрачной бумагой, на которой заново буду рисовать в уме некое лицо или ждать, когда оно, словно из ванночки с проявителем, покажется само собой.
Если гостиничный номер выглядит так, что его невозможно сфотографировать (или если можно сказать, что не возникает никакого желания это сделать), значит, это плохой номер. Когда приезжаешь в какой-нибудь город, первым делом хочется сфотографировать свой номер, словно чтобы пометить свою территорию, сфотографировать свое отражение в зеркалах, словно чтобы отметить свою временную принадлежность, словно чтобы снизить выплаченную за это дань, словно чтобы получить первое свидетельство своего присутствия. Или заходишь в гостиничный номер, чтобы сразу заняться в нем любовью.
ПРИМЕР СНИМКА, СДЕЛАННОГО ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
Приезду в незнакомый город сопутствует некое зрительное возбуждение, подвижность, ненасытная визуальная потребность: это радость «неприученного» взгляда (вероятно, дело в ином освещении, иных лицах, иной архитектуре, иных вывесках магазинов и наружной рекламе). На следующий день после приезда я использую три кассеты с пленкой, и мне нужно три дня, чтобы доснять четвертую… Для меня фотографии, сделанные во время поездки, демонстрируют особую динамику, некую истерию, которая очень быстро сходит на нет.
На автобусном вокзале Кракова я останавливаюсь, чтобы снять пожилую женщину и пожилого мужчину, закутанных в черное тряпье, со свесившимися во сне головами, временами вздрагивающими за железной перекладиной, которая их удерживает, телами, зажатыми между поручнями возле карты дорог, вот они, скрюченные, изнуренные, сдавленные за перекладиной, будто огромные марионетки в ящиках на витрине. Т. начинает меня бранить за то, что я делаю этот снимок, и мне становится интересно, почему он так протестует: физически я мог сделать эту фотографию, потому что мне не надо было сталкиваться взглядами с мужчиной и женщиной, они спали, фотография не могла причинить им никакого вреда, в нее лишь частично могли попасть их соседи, их соотечественники. Т. спрашивает, отчего я решил сделать снимок, и, может быть, ошибаясь, я объясняю, что этот кадр очень сильно меня взволновал, однако не из-за того, что он как-то касается меня социально. Т. говорит мне: «Подобные снимки делали уже сотни раз, и твой кадр представляет какой-либо интерес только потому, что ты живешь в другом месте», и это кажется мне одновременно и верным, и глупым. Верным, потому что действительно фотография имеет некую ценность лишь при определенном перемещении во времени и пространстве. Глупым, потому что эта фраза высмеивает мое мгновенно возникшее желание и заставляет меня задуматься: если я задумаюсь, то не смогу сделать снимок.
В ресторане Т. снова раздражается, потому что я фотографирую двух официантов, которые забираются на стулья, чтобы прибить афишу, и я говорю ему:
— Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо представить себя на месте фотографа, чтобы написать свой текст о фотографии?
— Но ведь ты даже не понимаешь того, что написано на афише.
Когда Гете в «Итальянском путешествии» (1786–1788) пишет: «Я поднялся на башню Сан-Марко, с которой можно наслаждаться особым видом. Это было около полудня, и погода стояла столь ясная, что я видел все очень далеко без подзорной трубы. В лагунах, покрытых волнами, стояли на якоре две или три галеры и много фрегатов; обратив взор в сторону Лидо, я наконец-то увидел море! Вдали вырисовывалось несколько парусов; на севере и на западе эту прекрасную картину достойно обрамляли горы Тироля и Падуи», — он как будто делает во время путешествия снимок, подбирает вид на почтовой открытке. Когда дальше в том же пассаже о Венеции он пишет по поводу одного монастыря Палладио: «Пройдя под колоннадой, можно войти в большой внутренний двор; здания, которые должны были его окружать, достроены лишь с одной стороны, ее образуют три яруса с колоннами, один выше другого. На нижнем этаже — паперти, на втором этаже — галерея с аркадами, ведущими в кельи, на третьем — голые стены и окна. Лишь основания колонн и своды сделаны из камня, все остальное из кирпичей, но из таких, каких я больше нигде не видел; куски сформованной, а затем обожженной глины соединены друг с другом с помощью невидимого раствора», — Гете как будто делает сначала общую архитектурную съемку, потом выделяет детали, различие материалов, как, например, Ренгер-Патч, когда он снимал крупные планы различных конструкций или машин.