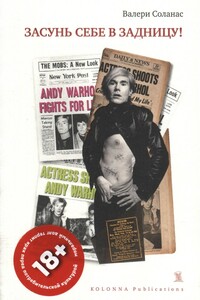В дневнике, который он вел с ноября 1975 по март 1977 (дневник, подобно фотографиям, можно датировать), Петер Хандке описывает ощущения, незначительные детали, запахи, все виды мелких расстройств. Он последовательно обращает каждый свой прожитый день в текст: все записывается почти что безотлагательно, и все оно точно так же длится во времени, вместо фотографий можно представить скорее видеоаппарат, который дублирует его зрение и сознание с помощью длинной и непрерывной ленты, вослед которой он потом восстанавливает провалы.
Если не говорить о чудовищных катастрофах регулировки, установки ошибочного расстояния и неверной выдержки, то первым непроизвольным движением, первой реакцией часто становится разочарование: «Оказывается, я видел всего лишь это, и это все, к чему свелось мое напряжение и мои усилия, к этим вот прямоугольничкам 24x36, которые зачастую уже ни о чем мне не говорят». Снимки, о которых я думал, что они будут самыми красивыми, не удавались, а те, о которых я думал меньше всего, порой выходили весьма неплохо. Я поддался этому аппарату, и в очередной раз он снова оказался не на моей высоте, слишком большой или слишком маленькой по сравнению с тем, что я ожидал от него. Или я плохой практик, или он плохой посредник.
Есть такие люди, один взгляд которых, когда встречаешься с ними на улице, уже кажется оскорблением; тогда высшим, окончательным оскорблением становится снимок.
Это определяет величину, физический (и мифический) образ уличного фотографа, репортера: он — некий зеркальный шкаф, какой-то здоровяк, который легко может снести встречное оскорбление, стало быть, некий тяжеловес, или же просто слепой, не восприимчивый к боли.
Фотоаппарат — это совершенно автономное небольшое тело с диафрагмой, само умеющее отмерять время ее сжатия и раскрытия, с похожим на своего рода скелет корпусом, однако это увечное тело, его нужно таскать с собой, словно ребенка, оно тяжелое, оно обращает на себя внимание, мы любим его, как болезненного ребенка, который никогда не научится ходить самостоятельно, но которому его недуг позволяет смотреть на мир с сумасшедшей проницательностью.
— Зачем ты делаешь снимки таким мелким и смехотворным аппаратиком? Ладно, пусть это и не «Инстаматик», но ведь не серьезно же! Ты бы мог купить «Лейку».
— Послушай, хоть я и не сам его выбрал, но он мне подходит. Он не тяжелый, запросто помещается в кармане, его можно без проблем пронести туда, где считается неприличным фотографировать. Но больше всего мне нравится в нем как раз то, что он, как ты говоришь, не производит серьезного впечатления. Он не устанавливает с людьми, которых фотографируешь, серьезных, профессиональных, денежных отношений. Он ни к чему не обязывает.
— Ты хочешь сказать, что с его помощью можно жульничать…
— Может, ты и прав. Не знаю, как тебе объяснить, но для меня это еще и вопрос приличий, корректности, морали. Я испытываю отвращение к огромным фотоаппаратам, которые лежат на пузе фотографов, надменно выставляющих кверху свои объективы. Это все равно, что ватные или войлочные накладки в костюмах-трико у танцоров. Потом, обладать большим фотоаппаратом значит тыкать всем в лицо своими деньгами, возможностью купить что угодно, чтобы все таращились, как на похабщину. Понимаешь, меня немного смущают фотографы, которые идут прогуляться по бедным кварталам, беря с собой свой сияющий на свету доспех, словно это не рабочий инструмент, а какое-нибудь невероятное украшение вокруг шеи…
— Ну, уж не тебе читать нам лекции о совестливом отношении к социальным различиям… Подумай лучше о том, что есть люди, которые обладают лишь мастерством и больше ничем, и скрывают этот недостаток, будто некий физический изъян. Можно сказать, что именно они — самые скромные и порядочные.
В ночь с 6 на 7 января 1980 года, возвращаясь в поезде «Моцарт» из Гамбурга, на пути от Страсбурга к Парижу Ф. борется со сном. Напротив него только что сел мужчина в габардине, багажа у того нет, они в купе одни. Ф. думает о своем фотоаппарате, это очень редкая модель «Робот Руаяль 36», которую прошлым летом ему уступил странный тип, когда он доставлял автомобильные запчасти и рабочую одежду в окрестности Гамбурга. И Ф. в поезде думает, что, если он уснет, мужчина в габардине может забрать у него аппарат, он сжимает его подмышкой под кожаной курткой с шерстяной подкладкой, он сопротивляется, но сон охватывает его, и, раздраженный, он все-таки засыпает. Когда он просыпается, напротив него нет никакого человека в габардине, подмышкой пусто, «Робот Руаяль» исчез. Он бежит по поезду, но человек в габардине вдруг оказывается совершенно безликим, невозможно даже сказать, был тот выбрит или со щетиной. По прибытии поезда Ф. подает жалобу и просит выдать ему справку о краже. Он указывает номер аппарата, известный ему наизусть, шесть цифр, выгравированных на черной обшивке корпуса: сто-восемьдесят-три-ноль-пятьдесят-три. Он клянется себе, что однажды отыщет этот аппарат. С тех пор, как его украли, он не мог сделать ни одного снимка. Один его друг говорит, что украденные аппараты из-за трудностей с таможней оседают в комиссионных магазинах Брюсселя или Амстердама. Он покрасил новый фотоаппарат несмываемой синей краской. Ф. отправился в Брюссель, чтобы отыскать «Робот Руаяль». Он сел в ночной поезд вместе с португальскими пассажирами, возвращавшимися в Нидерланды. Поездка длилась шесть часов, тогда как обычно она занимает всего лишь три, но Ф. нравится приезжать в разные города на рассвете, когда ночные рабочие идут выпить по последнему стаканчику пива, прежде чем лечь спать. Дул сильный ветер; несмотря на раннюю весну, было холодно. В кафе на Южном вокзале женщина с распухшими после сна веками тихо ласкала волосы своего мужчины пальцами с ярко-красным маникюром. Музыкальный автомат не работал. Весь день Ф. шагал по улицам, побывал во всех комиссионных фотомагазинах, спрашивал у торговцев, не предлагали ли им модель «Робот Руаяль 36». Он еще думал, что отыщет его, он верил в это. В Брюсселе он сделал лишь одну фотографию синим аппаратом: крест, нарисованный на верху стены возле шоссе. Спать он не ложился, вечером он уехал