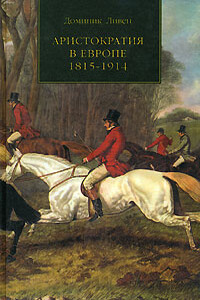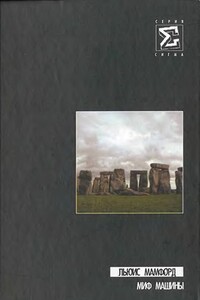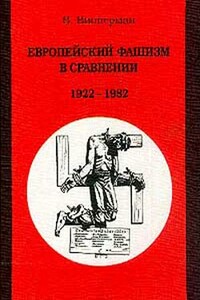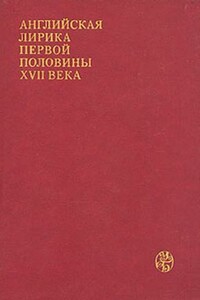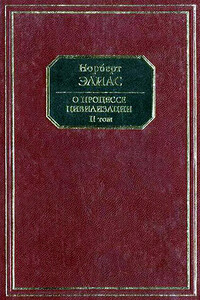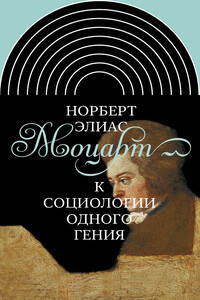18.
Наконец, третий пункт, который стоит подчеркнуть в конце данного введения, теснейшим образом связан с двумя другими. В начале мы поставили вопрос, какие особенности прежней историографии приводят к тому, что историю то и дело переписывают заново. Отвечая на него, мы указали на различие между высоким стандартом научно-исторического документального подтверждения деталей и высокой степенью достоверности знания, которое на основе этого стандарта можно получить о деталях истории, с одной стороны, и гораздо более низким стандартом научно-исторического истолкования взаимосвязей между этими деталями и, соответственно, меньшей степенью достоверности знания об этих взаимосвязях, с другой стороны. Запас надежного конкретно-исторического знания растет, но прирост надежного знания о взаимосвязях деталей за этим ростом не поспевает. Поскольку для традиционных историков не существует никакой надежной базы для истолкования взаимосвязей в истории, оно остается в значительной мере отдано на произвол исследователей. Пробелы в знании о взаимосвязях между хорошо документированными деталями вновь и вновь заполняются с помощью интерпретаций, определяемых сиюминутными оценками и идеалами исследователей. Эти оценки и идеалы, в свою очередь, меняются вместе со сменой злободневных вопросов их эпохи. Историю каждый раз переписывают заново, потому что взгляд исследователей на взаимосвязи между известными из источников фактами предопределяется отношением их к вненаучным проблемам эпохи.
Едва ли нужно говорить особо о том, какая это насущная задача — обеспечить исследовательской работе в области общественно-исторических проблем равномерную непрерывность прогресса от поколения к поколению, которая характерна для научной работы в других дисциплинах и без которой эта работа во многом утрачивает свое значение. Сказанного здесь на первых порах довольно, чтобы указать на то, что, если историки не будут отставлять в сторону свои недолговечные оценки и идеалы и не заменят в своей работе пока еще господствующие в исторической науке гетерономные оценки оценками автономными, стремление к большей преемственности в исследованиях едва ли может увенчаться успехом.
Поэтому может оказаться полезным проверить под этим углом зрения социологические модели долговременных процессов — к примеру, модель процесса цивилизации и образования государств[7] или модели специфических фигураций внутри подобных процессов — например, модель придворного общества. Все они возникают из стремления нащупать взаимосвязи, заключенные в самом предмете. Они представляют собою попытку разработать социологические модели, в которых автономия исследуемого объекта не затемнялась бы предвзятыми оценками и современными идеалами исследователя. Они не претендуют на то, чтобы быть окончательными моделями, последним словом, какое можно сказать об исследуемых процессах и фигурациях. Никакая теория и никакая модель ни в какой области исследований не могут претендовать на абсолютную окончательность. А в данном случае речь уж тем более идет скорее о начале, чем о конце пути. Это модели, над которыми можно работать дальше при любых колебаниях, каким подвержены переменчивые, актуальные, вненаучные идеалы исследователей, — если только стараться, насколько это возможно, в самой исследовательской деятельности держать в узде эти посторонние для науки оценки и прежде всего, стремиться к выявлению самих взаимосвязей такими, какими они были в действительности. Конечно, такой дисциплинированности исследователей невозможно достичь, когда времена слишком неспокойные, напряжение в обществе слишком велико, конфликты слишком сильно возбуждают умы. Но если страхи кризисов и взаимные угрозы людей в течение нескольких поколений будут не так уж велики, то я не вижу причин, почему нельзя было бы таким способом — добавив еще одно, социологическое измерение — обеспечить и исторической науке тот преемственный прогресс, который сегодня в ней еще отсутствует.
II
Предварительные замечания к постановке проблемы
1.
Королевский двор эпохи старого порядка ставит не меньше проблем перед социологом, чем любое из многих других социальных образований, которые — как, например, феодальное общество или крупный город — уже удостоились обстоятельного социологического исследования. В фигурации «двора» сотни, а часто многие тысячи людей были собраны в одном месте, чтобы услуживать, давать советы и составлять общество королям, которые были уверены, что неограниченно правят своей страной, и от воли которых в определенной мере и степени зависела судьба всех этих людей, их ранг, их содержание, их восхождение и падение. Люди двора были связаны между собой своеобразными формами принуждения, которое они и посторонние оказывали друг на друга и одновременно сами на себя. Их связывала между собой более или менее строгая иерархия и четкий этикет. Необходимость утвердиться и реализовать себя среди такой фигурации налагала на всех своеобразный отпечаток — печать человека двора. Какова была структура социального поля, в центре которого могла сформироваться подобная фигурация? Какое распределение власти, какие общественно воспитанные потребности, какие отношения зависимости приводили к тому, что люди в этом социальном поле на протяжении многих поколений снова и снова оказывались вместе в этой фигурации — а именно как двор, как придворное общество? Какие требования предъявляла структура придворного общества к тем, кто хотел бы выдвинуться или хотя бы просто утвердиться в нем? Так выглядят в общих чертах некоторые вопросы, которые ставит такое социальное образование, как «двор» и «придворное общество» эпохи ancien régime, перед социологом.