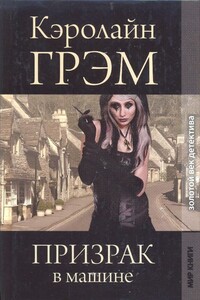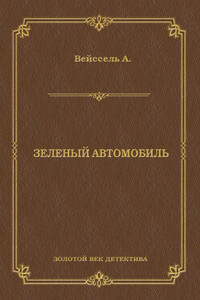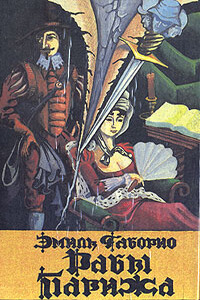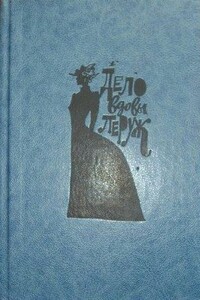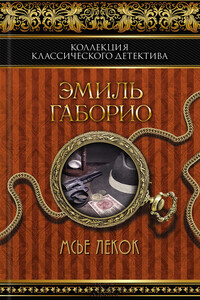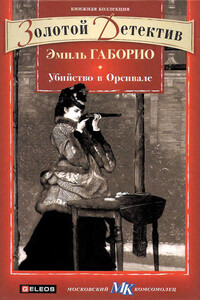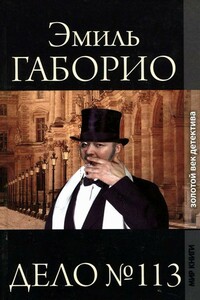– Мы осмелились вас побеспокоить из-за хозяйки, – невозмутимо объяснил Батист. – С хозяйкой не все ладно!
Несравненный орсивальский мэр слегка побледнел.
– Что с моей женой? – в тревоге воскликнул он. – Что ты имеешь в виду? Рассказывай!
– Дело было так, – начал Батист с самым что ни на есть безмятежным видом. – Является к нам почтальон с почтой. Ну ладно! Несу письма хозяйке, она была в малой гостиной. Как только вышел, вдруг слышу ужасный крик и шум, словно кто-то рухнул на пол.
Батист выговаривал слова не спеша; похоже было, что он нарочно испытывает терпение хозяина.
– Да говори же, – вне себя вскричал мэр, – говори, не тяни!
– Я, разумеется, вновь отворяю дверь в гостиную, – неторопливо продолжал пройдоха. – И что же я вижу? Хозяйка на полу. Я, как положено, зову на помощь, прибегают горничная, кухарка, другие слуги, и мы переносим хозяйку в постель. Жюстина мне сказала, что скорее всего хозяйка расстроилась из-за письма от мадемуазель Лоранс…
Слуга, которого никогда не бранят, заслуживал хорошей выволочки. Он запинался на каждом слове, тянул, мычал; сокрушенное выражение лица опровергали глаза, в которых светилось удовольствие: ему явно приятно было видеть хозяина в горе.
А хозяин был раздавлен обрушившейся бедой. Как все, кто не знает, какое именно несчастье их постигло, он боялся спрашивать. Он стоял как громом пораженный и, вместо того чтобы бежать домой, жалобно причитал.
Папаша Планта воспользовался этим замешательством, чтобы расспросить слугу, и при этом сверлил его таким взглядом, что бездельник не посмел вилять.
– Почему мадемуазель Лоранс прислала письмо? – спросил он. – Разве она не дома?
– Нет, сударь, вчера неделя минула, как она уехала в гости к одной из сестер хозяйки сроком на месяц.
– А как чувствует себя госпожа Куртуа?
– Лучше, сударь, только стонет так, что за душу берет.
Бедняга мэр тем временем немного оправился. Он схватил слугу за руку.
– Идем, негодяй, – крикнул он, – идем!
И они поспешно удалились.
– Несчастный! – вздохнул следователь. – Кто знает, может быть, дочери его уже нет в живых.
Папаша Планта горестно покачал головой.
– Возможно, это еще не самое худшее, – отозвался он и добавил: – Помните, господа, на что намекал Подшофе?
Следователь, папаша Планта и доктор тревожно переглянулись. Какое несчастье постигло г-на Куртуа, этого безупречного, всеми уважаемого человека, чьи недостатки искупались столь неоспоримыми достоинствами? Воистину недобрый сегодня день!
– Пускай Подшофе ограничился намеками, – сказал Лекок, – зато я, хоть и приехал всего-навсего несколько часов назад, успел уже услышать две весьма обстоятельные истории. Говорят, эта мадемуазель Лоранс…
Папаша Планта резко перебил сыщика.
– Клевета, – воскликнул он, – гнусная клевета! Обыватели завидуют богачам и за неимением лучшего средства бессовестно поносят их на все корки. Разве для вас это новость? Да ведь так ведется испокон веку! Состоятельный человек, да еще в маленьком селении, живет, сам того не замечая, в стеклянной клетке. Днем и ночью рысьи глаза завистников устремлены на него: они следят, подглядывают, шпионят за всем, что он делает, как ему кажется, в глубокой тайне, и это дает им сознание собственной силы. Он счастлив и горд, дела его процветают, люди его круга относятся к нему с уважением и дружбой, и в то же время низшие классы смешивают его с грязью и унижают самыми оскорбительными слухами. Разве для завистников есть что-нибудь святое?
– Пусть мадемуазель Лоранс и пострадала от клеветы, – улыбаясь, заметил доктор Жандрон, – зато у нее есть превосходный адвокат, который не даст ее в обиду.
Старый судья, человек, отлитый из бронзы, по выражению г-на Куртуа, залился краской, явно устыдившись собственной горячности.
– Мадемуазель Куртуа, – мягко ответил он, – в защите не нуждается. Девушки, подобные ей, имеют право на всеобщее уважение. Но гнусная клевета неподвластна никаким законам, и это меня возмущает. Задумайтесь, господа: наша репутация, честь наших жен и дочерей может погибнуть по милости любого негодяя, у которого достанет воображения сочинить какую-нибудь пакость. Ему, быть может, не поверят, да что толку? Клевету будут повторять, передавать из уст в уста. И что тут поделаешь? Разве мы можем знать, что говорится о нас там, внизу, в потемках? Разве когда-нибудь мы об этом узнаем?