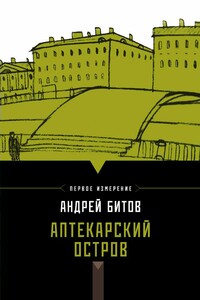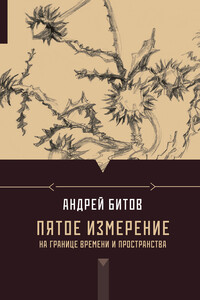Никак, выходило, людям не сойтись правильно. Приспособиться не удавалось. Но как же все-таки?.. А если любовь? Единственно любовь уравнивала и делала возможным контакт, ибо ведь всякое общение – неравное, потому что ни один другому не равен. Любовь!.. только она. Как же иначе – со старым да малым? Любовь… Джой… сын (которого не было, но мог быть)… В результате он каждый раз ловил себя на сомнении в том, что не подлежало сомнению: любит ли он Джой, она – его? Но последнее было бессмысленно: Джой была сама любовь, не ответить она не могла, он же… И на это подозрение в собственной бесчувственности снова наводило его общение с Гумми. Да, неравное общение преступно… С этой мыслью (но почти чувством) садился он писать очередное письмо Джой. «Под неравенством, кроме того чувства сожаления, которое оно вызывает, – писал он, – имеется и природа. Как будет выглядеть победа демократического идеала, если восстанет побежденная им природа, мы не знаем…» После общения с Гумми находил он в себе душевные силы писать невесте, полагая изложение сокровенных мыслей достаточным доказательством страсти.
Еще один аспект взаимоотношений доктора с Гумми отчасти уже был нами затронут. После каждого такого «идиотского» разговора уходил доктор с новой мыслью, энергично звавшей его к работе. Гумми становился не нужен и раздражал. Его следовало куда-нибудь деть из поля сознания. Давин отсылал его под любым предлогом и поплотнее усаживался за стол, спеша донести в зубах свеженькую мысль, успеть разогреть перо. Не мог он, естественно, полагать, что посверкивающая идейка была сообщена ему Гумми. Но определенную его катализационную роль Давин уже не мог не сознавать.
Гумми же пользовался любым поводом, чтобы взглянуть на Джой.
Он входил и забывал повод, замирал в дверях, расстегнув рот и вперившись в портрет.
– А, Гумми… – с остывающей лаской в голосе бормотал Давин. – Что там у тебя?
Гумми протягивал камушек с дыркой, или птичью лапку с кольцом, или увядшую бабочку.
– Ну, ну… Любопытно, – цедил доктор. – Оставь себе.
Знал бы доктор, что ни такого камушка вдали от моря, ни лапки, окольцованной в другом полушарии, ни бабочки, водившейся лишь в Южной Африке, никак не могло встретиться в их штате…
– Но я же не орнитолог, не энтомолог!.. – сдержанно закипал он. – Ступай, мне надо сосредоточиться.
А Гумми все смотрел на портрет…
– Принес бы ты мне что-нибудь с Луны… – усмехался тогда Давин.
Гумми каждый раз с той же силой огорчался, что доктор так и не поверил в его Луну. И, в последний раз обменявшись с Джой сочувственными взглядами, понуро выходил.
Но через некоторое время энтузиазм его восстанавливался.
– Ну что ты еще нашел?..
– Ничего… Я только хотел спросить.
– Ну?
Гумми, забывшись, смотрел на Джой…
– Спрашивай же!
– Что спрашивать?..
– Ну ты же хотел что-то у меня спросить?
– Я?..
– Ну да, ты. Кто же еще?
Гумми обернулся. Больше никого не было.
– Или уходи и не мешай мне работать. Или задавай скорее свой вопрос и тоже уходи.
Гумми умоляюще взглянул на Джой. И его осенило. Он соединил большой палец с указательным, показал этот кружок доктору и выпалил радостно:
– … – цифра или буква?
Следует сказать, что он был прав: фраза эта непроизносима. Потому что О, когда это ноль, и О, когда это буква, – вещи, естественно, разные, и предложение «О – цифра или буква?» легко прочесть, но нельзя правильно произнести. Эта фраза включает в себя картинку, как в букваре.
Доктор опешил и не сразу понял. Тогда Гумми написал О в воздухе пальцем и повторил:
– … – цифра или буква?
Теперь и Давина осенило. Он хохотал до истерики и долго еще всхлипывал мелкими брызгами.
– Ты хочешь сказать… – Он уже округлил губами О и запнулся, окончательно осознав обозначившуюся неразрешимую трудность; его стало распирать новым смехом, и, так и не произнеся О ни в том, ни в другом значении и уже всхлипывая от свежего приступа, давясь, кругло выдохнул и повторил: – … цифра или буква?
И, пока его снова душило и разрывало, Гумми был польщен, смущен и огорчен. Он уточнил, еще раз соединив пальцы в кружок:
– Вот это, – (то, что он показал), – кружок или дырка?