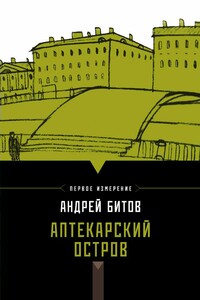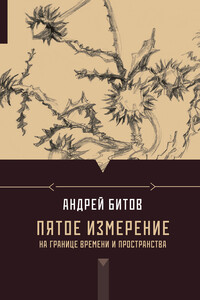– Какая ты легкая!..
И это была явь.
– Так значит, это вот куда мы пришли…
– А куда тебе было еще?..
– А как тебя зовут?
– Мадонной. Это он меня так назвал.
– Святотатец! – смеялся Бибо. – А ты ему кто?
– Он меня крестил.
– Мадонной?!
– Я только массаж делаю… Тебе не понравилось?
– Очень понравилось. Я как младенец проснулся.
– Только-то?.. – Она будто даже обиделась.
– Я как заново родился!
– Вот это другое дело. Сегодня бы он тебя покрестил.
– Отец, кажется, не имеет права быть восприемником собственного сына…
– Он всех в нашем квартале крестил.
– Так он что, правда был священником?
– Он был святым!
Пахло кофе. Свиристели птицы. Из окна были видны пальмы и море… Куда девался вчерашний день?
– Я знаю, что это не ты его убил. И Бьянка-Мария не верит.
– Кто-кто?
– Моя дочь.
– Она тоже работает… здесь… в квартале?
– Нет, у нее хорошее место.
Тут его осенило, и он развернул бумажку:
– Какой у вас адрес?
Он был прав: адрес совпал.
– А где Белая Мери?
– Улетела в Гонконг.
Тут его еще раз осенило.
– Стюардессой?..
– Ну да. Она тебя тоже запомнила. Твой отец тоже замечательно улыбался.
Тоже и то же… Смерть как грамматика. Пунктуация. Запятая, тире. Никаких перемен – смена времен. Не времен года, а времен жизни. То он улыбался, как отец, а теперь отец улыбается, как он…
«Распутник!.. Святоша!..» – брюзжала мать.
Получалось, что оставалась небезразлична.
Волосы у отца были прямыми и черными как смоль, глаза чуть монголоидного разреза, но прозрачные и голубые, как у сибирской лайки, душою же он был рыж, как ирландец. И мигал густыми неровными черными ресницами, как рыжий человек, и тогда глаза его казались слепыми. Но видел он отлично! Через всю комнату метнул он серебряную шпажонку для накалывания оливок, и она пронзила муху, досаждавшую им целый ужин, хотя старая леди и делала вид, что никакой мухи не было. Мать уронила ложку, леди откинулась в благородном полуобмороке, тринадцатилетний Бибо с восторгом глядел на отца, шпажка все еще дрожала между двумя фамильными портретами, отец же как ни в чем не бывало рассуждал об искусстве восточных единоборств, неведомом европейцам. Ниндзя.
Это слово он впервые услышал от отца, и на всю оставшуюся отцу жизнь, то есть на те семь лет, в которые он его снова никогда не видел, слово это стало для него сокровенным: так вот кто на самом деле был его отец! Во всяком случае, исчез он так же внезапно, как возник.
Утром они катались на велосипедах в окрестностях замка, отец не считался с силами сына, а тот боялся обнаружить слабость – и это было мукой в чистом виде, впервые испытанной, и сын начинал тихо ненавидеть отца, как вдруг хлынул ливень, и они укрылись под столетним вязом, велосипеды не поместились – крупные капли разбивались о кожу седла, и это было весело.
После ланча они копали червей. «Что ты их боишься! – трунил отец. – Знаешь ли ты, что биомасса червей во много раз превышает биомассу всего живого на Земле?» – «И слонов?» – «У слонов-то как раз самая маленькая биомасса». «Что такое биомасса?» – рискнул наконец спросить сын, когда они подошли с удочками к заливу. Отец рассмеялся, и они уже сидели в лодке, сын впервые на веслах. «Левой! Еще левой!» – злился отец, уже и берег скрылся из виду, и сын опять его ненавидел, как стал накрапывать дождь. «Сейчас начнется клев», – сказал отец и бросил якорь – обмотанный накрест веревкою камень.
И это был первый азарт! Чем сильнее припускал дождь, тем лучше клевало. Сын наживлял червя, как отец, плевал на червя, как отец, забрасывал, как отец… Все получалось у него хуже, только клевало лучше, и отец не мог скрыть досаду: «Ты что такое в детстве ел?..» Днище лодки было уже выстлано живым серебром, когда дождь превратился в ливень. Отец пересел на весла, сын умолял его сделать еще хоть один заброс, но тот уже мощными рывками выгребал к берегу, и сын опять его ненавидел.
Ливень превратился в потоп, отец яростно греб, еле подвигая лодку, полную до бортов рыбы и воды, сын яростно вычерпывал воду, но она все прибывала, и рыба плавала в лодке, как в аквариуме, пока они с отцом принимали в ней же – холодную ванну.