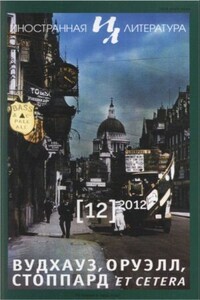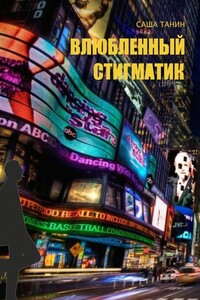На мгновение штурмфюрер СС Бендель замер.
— Я вижу нечто совсем другое, — сказал наконец он и вышел.
Они никогда не говорили о политике — бродили по храму искусств, будто отгороженные от внешней жизни. Бендель иногда упоминал фюрера, но только чтобы сообщить, как тот относится к какому-нибудь художнику (обычно девятнадцатого века). Про своего начальника, рейхсфюрера СС Гиммлера, он не говорил никогда и в форме появлялся редко. Рассказывал смешные анекдоты про маршала Геринга. Якобы однажды Геринг посетил сталелитейный завод, где забрел под магнит и взлетел в воздух на своих медалях. (Судя по всему, Геринг сам находил подобные анекдоты забавными, что, с одной стороны, слегка успокаивало герра Хоффера, а с другой — портило все удовольствие от анекдота.)
Однажды герр Хоффер назвал его радикальным романтиком.
— Знаете, как Достоевский назвал романтика, герр Хоффер?
— Боюсь, что нет.
— Мудрецом. В "Записках из подполья".
— Ах, да, — ответил герр Хоффер, не читавший Достоевского, — отличная книга, но слишком уж русская.
Бендель опять рассмеялся своим громким, пронзительным смехом. Такой смешок был в моде среди офицеров СС из-за Рейнхарта Гейдриха.
— Как вы правы, герр Хоффер. Действительно слишком русская.
В общем и целом, Клаус Бендель был приятным и интересным молодым человеком, чья подкупающая ребячливость лишь иногда слегка омрачалась каким-нибудь резким заявлением, заставляя герра Хоффера вспоминать собственную юность. Как правило, это было заявление философского толка — какое-нибудь категорическое утверждение, сказанное ни к селу ни к городу, сводившее на нет осторожные попытки вступить с ним в дискуссию. От последних двух тысяч лет цивилизации он отмахивался одной фразой; Бенделя увлекали доисторические времена, в которых он находил "истинную красоту в союзе с природой, инстинктивную правду". Кремниевые орудия и наконечники для стрел из зазубренной китовой кости — вот что он ценил превыше всего. Бендель был представителем СС на многих археологических раскопках, и это перевернуло его отношение к искусству. Он считал, что искусство истинно, только когда оно бессознательно, когда из анонимной простоты рождается костяная стрела — выражение величайших глубин человеческой души. Доисторический охотник не назвал бы это искусством. Искусство — это продукт упадка, болезни, приведшей людей к сидячему городскому образу жизни. Картины — это декадентское искажение главного — многотысячелетней борьбы доисторического человека за объединение практической пользы и утонченной эстетики искусства. Искусство — вечный спутник природы, и наконечник стрелы, и акула соединяют в себе как эстетическое, так и практическое совершенство. Оба прекрасны, ибо совершенны. Мы живем, продолжал Бендель (возбужденно сверкая глазами), в век несовершенства. Мы утратили инстинкт, естественность, принадлежащую нам от природы. Рассудок взял верх, поэтому наши творения неуклюжи и неловки. Посмотрите, как уродливы города! Посмотрите на эту комнату, на этот Музей — сколь нелепыми они покажутся, если взглянуть на них не замутненными цивилизацией глазами! Это наши священные реликвии, наша современная церковь — но не абсурдна ли она, если посмотреть на нее со стороны, как смотрит бессмертный Бог? Не лучше ли горящая в костре страшная маска?
— Лично я, — сказал герр Хоффер в ответ на один из подобных приступов энтузиазма, — предпочел бы горящей маске рисунок Рафаэля.
— Герр Хоффер, вы ничего не поняли. Простите, но иногда вы наивны, как ребенок.
— Я простосердечен, допустим. А знаете ли вы, что Лейбниц, великий подвижник Просвещения, в юности состоял в тайном обществе, которое не гнушалось магии, алхимии и розенкрейцеров? Судя по всему, после Тридцатилетней войны подобным вздором кто только не увлекался.
— К чему вы клоните?
— Сам не знаю.
Повисла пауза. Бендель был в форме — высокий, элегантный, сдержанный. Он резко скрестил руки, и в его безупречной черноте что-то звякнуло и скрипнуло.
— Если вы намекаете, что я не антирационалист, то вспомните, что говорил Лейбниц о примитивной истине факта.