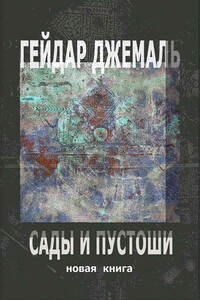Это уже первый проблеск государства на самой заре.
Формируется психология вахтеров, в каком-то смысле…
Это, конечно, очень сильное упрощение, но если посмотреть, как это формировалось в николаевские времена, то при Петре государства не было. Да, при Петре было огромное количество несправедливости, насилия, бритья бород, волюнтаризма, но при этом были конвульсии политического общества, еще была обратная связь безумствующего Петра с уровнем мужиков, крепостных, кого угодно. Это агонизирующее состояние. А вот когда мы переходим ко временам Клейнмихеля, Бенкендорфа и так далее, то тут мы попадаем как раз в стадию формирования настоящей бюрократии, которая, что интересно, заложила парадигму, действующую и в постцарские времена. И когда товарищ Сталин создавал свой аппарат, в аппарат он верил свято. И когда он формировал этот аппарат, то образцом для него был Николай Павлович. И там общность этой модели настолько очевидна, что она была воспроизведена практически сознательно, тут и спорить не о чем.
Да, огромная система согласования существовала при Сталине. Надо отдать должное, он и сам вникал в процесс работы, вычитывал литературу…
Николай тоже. Более того, это человек, который говорил Пушкину: «Я буду вашим цензором». И Сталин то же самое говорил. Но это были хозяева. А что происходит, когда такой хозяин уходит? Естественно, сразу же бюрократия начинает искать себе хозяина, и хозяин может быть где угодно, – в том числе и за океаном. Когда бюрократия не находит себе хозяина дома, она начинает работать на геополитического врага. И это химический процесс, тут ничего не изменишь.
На самом деле тут интересный есть момент. Ведь бюрократия, государство – это феномены модерна. Сейчас популярна мысль, которая высказывается в очень широких кругах, начиная от Могерини[32] до каких-нибудь там экспертов ООН, что национальный суверенитет – это нечто ограничивающее и нарушающее очень тонкие гуманитарные вещи, это удар по правам человека и так далее, и нужно переступать через все эти вещи и прочее. Идёт наступление на национальные суверенитеты. Это уже эпоха постмодерна. А постмодерн характеризуется появлением гражданского общества. Что такое гражданское общество? Гражданское общество – это имитация или пародия тех самых находящихся на низшей стадии развития племён, которые заняты мамонтом. Это, в некотором смысле, такая карикатура на те представления…
Что же для них тогда мамонт? Они охотятся на бюрократов?
Гражданское общество хочет кушать, и гражданское общество требует комфорта. Гражданское общество говорит, что «у нас есть права, мы должны реализовывать какую-то возможность самодеятельности, пусть государство не вмешивается в нашу экономическую жизнь, давайте сократим присутствие государства в нашей повседневной практике – экономической прежде всего». То есть это «мамонт». «Мамонт» в форме современной колбасы. Но они говорят, что настоящий бизнес невозможен без прав и свобод, и чтобы иметь развивающийся бизнес, нам нужна в дополнение к бизнесу возможность иметь свободу, высказывать свою точку зрения. При этом соединяться в какие-то союзы, общественные организации, в самодеятельность гражданского плана. Это на горизонтальном уровне, никаких претензий на вертикаль нет. Гражданское общество не претендует на политическую вертикаль, гражданское общество хочет быть сетевым и оно хочет просто заниматься своими делами, чисто человеческими, – это имманентный профанический уровень, но «только на этом уровне нас не трогайте, пожалуйста». Это кризис идолократии. «Не верим мы больше в вашего Левиафана, мы хотим, чтобы этот страшный слон, разрисованный ужасными, непонятными иероглифами, не топтался бы на нашей грядочке, где мы выращиваем нашу редиску». Это гражданское общество, это антитеза бывшему политическому. Это новый фактор, который характеризует эпоху постмодерна.

Да. И сегодня идёт такая интересная игра, что гражданское общество является политикой второй очереди. Наступление на гражданское общество со стороны государства и возражение гражданского общества по поводу этого наступления составляют политическую жизнь. «Мы хотим собираться, мы хотим устраивать какие-нибудь выступления, протестовать против каких-нибудь вещей, это нужно для того, чтобы хорошо шёл бизнес, и вот вы мешаете, а поэтому мы опять-таки собираемся и прочее». Это – политика. Но это политика второй очереди. Она не о власти, потому что власть – это Бытие. А здесь нет власти. Это вопрос о контроле: быть контролю всеобъемлющим и тотальным или как-то его сокращать. Но контроль на самом деле – это ограничительная вещь, она не созидающая. Контроль – это цензура. Контроль – это «вычеркнуть», это «туда нельзя, сюда нельзя». И в данном случае мы начинаем жить не в реальной политике, не в реальной истории, а в тени политики и в тени истории. Это характерная черта постмодерна.