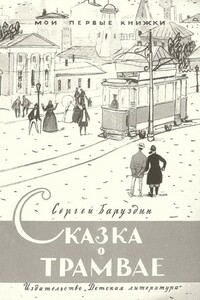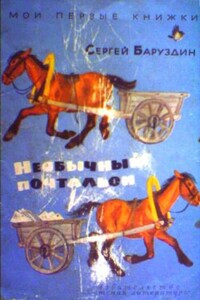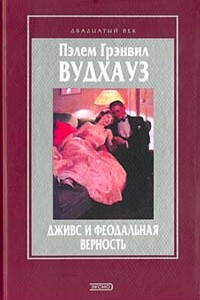Витя поправился на госпитальных харчах и даже как-то посолиднел.
— Дней через десять обещают отпустить. Представляешь? А Буньков! О, какой Буньков! Я просто влюбился в него. Представляешь, ранение у него серьезное, не то что у меня, а он мне каждый день записки присылал. Смешные такие: мол, не унывай, Макака, мы еще с тобой повоюем, даже после операции. А потом заходить стал, и во дворе мы каждый день встречаемся. Я прямо не знаю, как его и благодарить. Никогда не думал, что он такой!
Макака рассказывал взахлеб, и взахлеб спрашивал, и опять рассказывал.
— А у нас Шукурбек… И так глупо… — сказал я.
За окном, будто отдыхая от прожитого трудного дня, тяжело дремал город. Огромный, почти не тронутый войной, он вяло дымил трубами заводов и фабрик, стучал сапогами солдат, трепетал флагами и транспарантами, шелестел метлами — немцы подметали мостовые и тротуары. Шли по улицам люди — взрослые и дети. Закрывались ставни уже работающих магазинов. Проносились штабные машины. Шумели воробьи. И вороны на огромных старых деревьях галдели, готовясь на ночной покой. А в окнах домов, где уже жили люди, опускались шторы. Сейчас электростанция даст ток.
В ворота госпиталя, а их трое, въезжали и выезжали санитарные машины. Из машин прибывающих выносили и выводили раненых.
— Осторожно. Берем. Заноси влево. Осторожно, осторожно! Давай. Беру, — глухо аукал двор.
Санитарный порожняк уходил обратно, обгоняя армейские колонны, шедшие через город к автостраде Бреслау — Берлин. И пустые санитарные машины, и войсковые колонны спешили к фронту.
А когда над Лигницем опустился вечер, из ворот госпиталя выехала крытая машина. Никто не видел, как она была загружена, как трое солдат с лопатами и фонарем сели в кузов. Выбравшись за черту города, машина свернула на грунтовую дорогу и остановилась у небольшой высотки. Здесь уже был готов ров, напоминающий несколько увеличенный в поперечнике окоп.
Трое солдат и водитель вынули из машины пять мешкообразных тел и осторожно положили их в ров, с самого края, одно на другое. Затем взяли лопаты и присыпали их чуть-чуть землей.
— Бумажка где? — спросил один из них, спустившийся на дно рва.
— Тут, — прозвучало сверху. — На!
Он положил бумажку на землю. Потом покопался вокруг, нашел камешек и придавил им бумажку:
— Фонарь подайте-ка, проверю.
Ему опустили фонарь. Солдат рукой подровнял землю, присыпав торчащие из нее волосы, и еще раз перечитал бумажку: «4.03.45 г. Похоронены к-цы Хомутов, Анжибеков, Свирлин, с-т Савинков, мл. сержант Сойкин. Место свободно».
— Кажись, все верно. Подсобите подняться.
Солдат вылез из рва, и все молча закурили. Затоптав сапогами окурки, пошли к машине.
— Небось на сегодня всё.
— Посмотрим. До утра-то еще вон сколько!..
Мне все хотелось сказать ей, что я свободен до утра. Но я видел ее усталое лицо и помимо воли поглядывал на руку. Десять часов. Двадцать минут одиннадцатого. Без десяти одиннадцать. Пятнадцать минут двенадцатого. Двадцать пять…
Пролетело уже три часа, но я не заметил их. Мы сидели совсем одни в большой квартире, и мне казалось, что мы только что встретились и ни о чем еще не успели поговорить. Она старалась быть хозяйкой этой чужой для нее и непривычной для меня квартиры и угощала меня чем-то, и поила чаем, и опять бегала на кухню. А я все думал и думал об одном: идет время, время идет… и — уходит.
— Мне пора, пожалуй, — наконец сказал я, еще раз взглянув на часы: — Без двадцати двенадцать…
— Ну что ж. — Она тоже встала. — Спасибо тебе большое, что ты приехал. Ты знаешь, как я рада…
Мы вышли из комнаты в прихожую и стояли у двери, вдруг она вспомнила что-то и смутилась:
— Ах, какая же я! Ведь у меня есть что-то… Специально берегла… И забыла. Может, на дорогу?
Не снимая шинели, я вернулся вместе с ней в комнату, подождал, пока она принесет из кухни это «что-то», и мы подняли стаканы:
— За встречу! Нашу… — сказала она. — И не сердись, что я — такая…
— За встречу! И… — Мне хотелось сказать ей еще какие-то слова. — И за то, чтоб мы встретились еще!
Мы опять попрощались у двери. Она вышла на лестницу проводить меня.