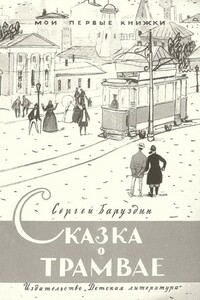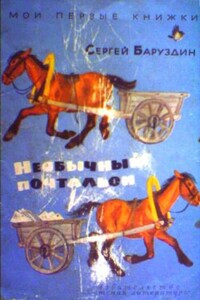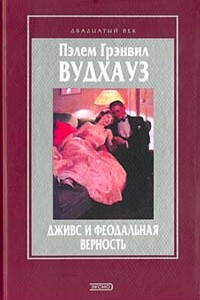Я думал об этом, вспоминая прошлое и настоящее, и ловил себя на мысли, что прислушивался к ее дыханию. Она спала. Хорошо, что она спала. Сколько ей лет — двадцать один? Да, в сороковом ей было шестнадцать, а мне тринадцать. Сейчас мне восемнадцать, а ей двадцать один. Нет! Ничего не говорят года! И нам столько же, сколько было прежде, когда мы шагали по Чистым прудам, и нам — много-много, потому что испытанное не меряется возрастом. Я знаю ее лицо — какое оно усталое! Сколько ею пережито! И пусть она спит сейчас, пусть спит, пусть спит, спит, спит!
— Ты не спишь?
Я вздрогнул от ее голоса.
— И я никак не могу… Подойди ко мне…
Ее ли это голос? Я не узнаю его, но повторяю:
— Сейчас… Сейчас…
Мне надо одеться, и я кляну себя (Идиот! Идиот!) и шарю в темноте по незнакомой комнате…
— Неужели ты меня любишь? Всерьез? — шепчет она, а я бормочу что-то и погружаюсь в неизведанное, тысячу раз желанное, и уже ничего не могу говорить, а только шепчу:
— Наташка! Наташенька! Наташка!..
Утром я проснулся и увидел, что она уже не спала.
Она сидела, обхватив колени, на каком-то пуфике рядом с кроватью — дурацком, чужом пуфике. И сама вроде чужая. И вдруг я вспомнил — моя! Спросонья я смотрел на нее, наверно, совсем не так, как я хотел смотреть. А она смотрела на меня так, как никогда не смотрела прежде. И в ее глазах я чувствовал угрызение совести, и смущение, и страх…
— Отвернись, пожалуйста. Я оденусь, — попросила она.
Я отвернулся и теперь окончательно понял, как мне хорошо.
— Сейчас я накормлю тебя.
— А себя?
— Тебя, — повторила она. — Ведь скоро семь.
Она готовила на кухне, но я не видел, что она делала, а видел лишь ее, тысячу лет знакомую и совсем иную.
— Наташа!
— Ну что?
Она обернулась и посмотрела на меня непривычно пронзительно, и я уже начинал обижаться:
— Зачем ты так?
— А что теперь будет, ты подумал?
— Как — что? Кончится война, мы вернемся…
— Я не про это…
Теперь я все понимал. И то, что она, старшая, советовалась со мной, как с равным, а может, и со старшим.
— Наташенька! Ведь война кончится вот-вот. Ты сама знаешь…
— Хорошо, если…
— Кончится, кончится, кончится! И потом, я люблю тебя! Люблю, ты и сама не понимаешь, как люблю…
Мы вернулись из Лигница, и первым нам встретился Володя:
— Здравия желаю, товарищ лейтенант!
— Здравствуй, ефрейтор, — безучастно ответил Соколов.
Володя проводил комвзвода глазами.
И вдруг засиял:
— Слушай, ты ни черта не знаешь! Ведь та баба — Валя, помнишь, Валентина — женой его была! Представляешь, женой! А она эсэсовка! Ты понимаешь! Хорош офицер наш Соколов! Советский офицер, а жена эсэсовка! Вот и доверяй людям! А мы еще у таких в подчиненных ходим!..
Я ничего не понял. Кроме одного…
— А чему ты так радуешься? У человека беда, а ты радуешься?
— Я радуюсь? Да чему мне радоваться, когда у меня неприятность, — сказал Володя с явной обидой. — Ты подумай, какое свинство! Получаю письмо от отца, а он пишет: пришла твоя посылка, открываем, а в ней два кирпича. Обычных кирпича! Представляешь! Мне бы этих почтовых сук увидать! Хорошо хоть, что вторую и третью в целости получили. Вот как наживаются за наш счет, гады!..
После Одера и Бреслау артиллерийскому корпусу, который мы обслуживали, дали отдых. И нам — отдых…
Странная штука — отдых на войне. Подворотнички пришили, форму, как могли, привели в порядок. Устроили из пустой бочки вошебойку — переморили насекомых. Посмотрели фильм «Серенада солнечной долины», протопав до места демонстрации этого фильма шесть километров и столько же обратно. Саша проявил инициативу — устроил три политинформации…
Наконец команда: «По машинам!»
К вечеру, после долгих скитаний по размытым и разбитым дорогам, мы выехали на автостраду и не поверили своим глазам. Перед нами был огромный указатель: «На Берлин. 331 км».
С наступлением календарных весенних дней погода в Германии испортилась. Март встретил нас снежком и морозами по ночам, которые уже никого не устраивали. Апрель начался с дождей. Всюду — слякоть, мерзопакостная, удручающая. И все же не она определяла настроение. Триста тридцать один километр до Берлина — это казалось чудом. А мы все двигались и двигались вперед. Второй день в пути.