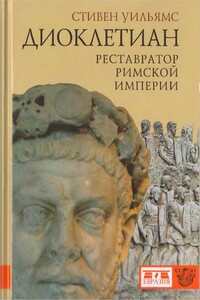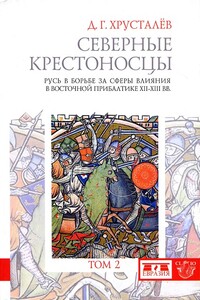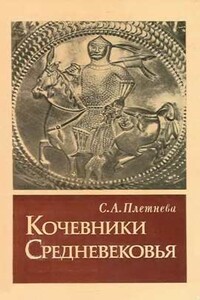Но в то время, как соки куртуазного идеала питали великие произведения, в других жанрах литературы чувство любви изображалось совсем иными красками, чем в светских романах. Поэмы на основе легенды о Тристане вдохновлены совершенно особой идеей. Как ни старался поэт Тома в XII в. придать этой легенде такой вид, чтобы ее можно было отнести к куртуазной литературе, ее основная мысль не вязалась с духом той среды, к которой он хотел ее адаптировать. Деликатные чувства какой-нибудь Марии Шампанской она оскорбляла; и, сколь бы смелыми ни были положения куртуазной догмы, эта легенда шла гораздо дальше — ведь она пронизана духом бунта против общественных установлений, или, если говорить точнее и ничего не упрощать, она призывает читателя к горячему состраданию и побуждает его испытывать в сердце тайное сочувствие, когда двое любовников, отвергнув все обязанности во имя своей страсти, добиваются нескольких мгновений счастья. Это отворяет двери для многих смелых новаций.
Другие, следуя иными путями, пошли еще дальше. В апологию торжествующей страсти, какую предполагает легенда о Тристане, они привнесли либо просто искреннюю чувственность, либо еще и то наслаждение, которое испытывали в душе, изображая победу любви над социальными условностями. Но где предел для желания освободиться? Не будем задерживаться на непристойном характере некоторых фаблио и их грубом реализме, вызывающе выставленном напоказ, — желание авторов вызвать смех лишает нас возможности привести эти новеллы по причине самой их откровенности; не будем задерживаться и на некоторых рассказах, например, на пастурелях, напускной цинизм которых — дань уважения морали, выраженная не напрямую. Но надо подробно остановиться хотя бы на лирических, или повествовательных, поэмах, в большинстве написанных на латыни, целиком — несмотря на забавную игру слов — проникнутых натурализмом, возрождающим дух язычества. Действительно, стремление подражать античности порой внушало тем, кто ее изучал, определенную философию, которую трудно было примирить с христианским образом мыслей. В этом отношении Овидий, имевший столько учеников, был образцом очень опасным; а даже школьные учителя беззастенчиво брали из него тексты, нередко скабрезные, чтобы давать в классе для переводов детям или совсем молодым людям. Клирики-ваганты, о которых мы уже говорили, выказали здесь удивительную смелость: уже не имея возможности ссылаться на литературную традицию и чисто формальное подражание, они дошли до того, чтобы мыслить и чувствовать, как самые вольные из римских поэтов, — следовали зову чувств, не сожалея более ни о чем, как Катулл, и отвергали всякое принуждение, если испытывали потребность освободиться, к чему призывал Лукреций. И вот женщина — не более чем объект вожделений.
Следует полагать, что такое разнообразие взглядов внушало женщинам и самый различный стиль поведения.
Филипп Новарский хвалил женщину скромную и мудрую, держащуюся просто, ревностно оберегающую свое тело и извлекающую славу единственно из добродетели. Людовик Святой в своих «Поучениях» дочери Изабелле, составленных в то же время, делает образ добродетельной женщины еще благородней. Любить Бога и вдохновляться этой любовью во всем; избегать смертных грехов; следовать предписаниям церкви и пунктуально выполнять все религиозные обязанности; терпеливо сносить болезнь и благодарить Господа за его дары; помогать несчастным и лелеять беднейших; смиренно повиноваться мужу, отцу, матери; стараться подавать добрый пример; не иметь слишком много ни платьев, ни украшений, а избыток раздавать в виде подаяния; не допускать, чтобы в наряде было что-либо, кроме необходимого; никогда ничего не делать ради обещанного вознаграждения за добрые дела и никогда не позволять себе слабости в расчете на привилегии, положенные тебе по рангу, — вот идеал, который король предписывал своей дочери.
Но вот другой советчик, современник Людовика Святого, по имени Роберт Блуаский, который тоже намеревается учить дам, как им себя вести[193]. Его книжечка — это сборник наставлений, многие из которых удивительны и сами по себе, но еще более своеобразно выглядит неожиданное их смешение. Возможно, он хотел пошутить и позабавиться; если же он писал всерьез, возникает вопрос, к дамам какого рода он адресовался. Во всяком случае, весьма возможно, что аудитория у него была.