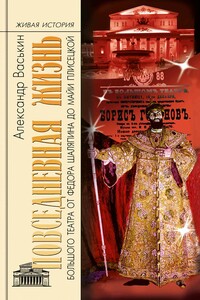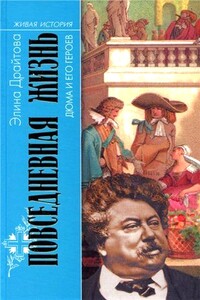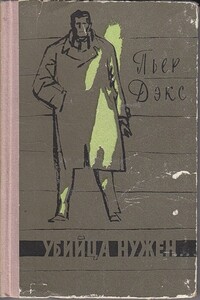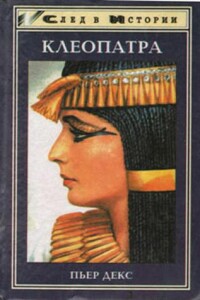Суд над романом
«Волна грез» была не только разработкой и подведением теории под поиски вдохновения в автоматическом письме и снах, что позволило Арагону примазаться к обновлению сюрреализма, связанному с «Явлением медиумов»; прежде всего это была попытка примирить прозу, которую он писал, и ожидания Бретона. Это примирение Арагон называл «сюрреальностью».
Только в 1969 году Арагон объяснил свою позицию в отношении «суда над романом»: «Уже после того, как он привык к механизму отмены цензуры благодаря скорости письма, А. Б. стал говорить, что для него диктовка начинается с услышанной фразы. Тогда я воскликнул, что для меня это как раз отправная точка романа, основа необъяснимой деятельности ума, которой предавались столько людей, не задумываясь о ее причине, — другими словами, существует точно такая же потребность и произвольность между побудительной фразой и сюрреалистским текстом, как и между романом и фразой, обычно сущей нелепицей, задающей ему направление».
Бретон ответил ему, так сказать, загодя, всей личной частью «Манифеста»: «Следует признать, что среди множества доставшихся нам в наследство невзгод была предоставлена и величайшая свобода духа. Мы недостаточно ею злоупотребляем. Принудить воображение к рабству — хотя бы даже и во имя того, что мы столь неточно называем счастьем, — значит уклониться от всего, что, в глубине нашего существа, причастно к идее высшей справедливости». А роман, как бы к нему ни подступались, и был для Бретона обращением воображения в рабство. Доказательством тому было именно произвольное начало, которое Арагон выдвигал в качестве оправдания. Послушаем Бретона: «Не так давно, ощущая потребность в чистке, г-н Поль Валери предложил собрать в антологию как можно больше романических зачинов, нелепость которых казалась ему весьма многообещающей. В эту антологию должны были бы попасть самые прославленные писатели. Такая мысль служит к чести Поля Валери, уверявшего меня в свое время в беседе о романе, что он никогда не позволит себе написать фразу: маркиза вышла в пять».
Вот почему Арагон включил в «Волну грез» не свою теорию завязок романа, изложенную в 1969 году, а описание, замаскированное под пример сюрреализма, которое могло бы присутствовать в «Парижском крестьянине»: «Существует сюрреалистический свет — в тот час, когда города охватывает пламя, он падает на розоватый прилавок с шелковыми чулками; полыхает в магазинах бенедиктина и его бледной сестры на складах минеральной воды, тайком освещает синюю контору бюро путешествий на поля сражений на улице Вандом;[105] допоздна сохраняется на авеню Оперы у Барклей, когда галстуки превращаются в призраков; свет карманных фонариков на убитых любовью…»
Если город со светящимися вывесками до наступления эры неона есть сюрреализм, описывать его — значит погружаться в сюрреалистический свет, или в сюрреальность (это слово Арагон выдумал специально): «Связь есть общий горизонт религий, магий, поэзии, грезы, безумия, опьянения и хилой жизни, это трепещущий куст жимолости, который, как вам кажется, один заполонит все небо». (Эти слова положили конец двусмысленностям в отношении «реальности» в первом «Парижском крестьянине».)
Хотя слово «сюрреальность» было произнесено, «Волна грез» осталась «широко известна узкому кругу», никогда не переиздавалась, и то, что Арагон там написал, воспринималось лишь как пример сюрреалистического света. Несовместимость между ним и Бретоном была связана с необходимостью для Арагона показать в своих романах разрыв между пошлостью и поэзией, однако они сходились в неприятии реализма в его наивной концепции, который, кстати, уже умирал.
«Парижский крестьянин», как и «Надя» Бретона, сегодня читаются как сюрреалистические романы. Но сказать так в то время значило бы развязать гражданскую войну.
С приближением публикации «Парижского крестьянина» отдельной книгой в 1925 году Арагон сведет эти разногласия между ним и Бретоном к шутке: «Я знавал человека, который не такой, как все… Это некто Андре Бретон, который кажется романистам персонажем романа и, похоже, является моим другом. Который слышит катастрофы. Который ждет на краю болот глас синей трубы будущего. Который никогда не думал о себе… Который никогда не шутил с небесами».