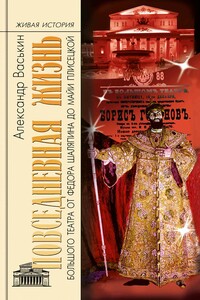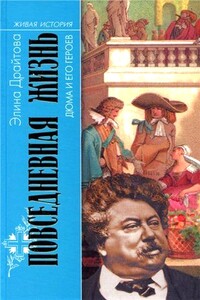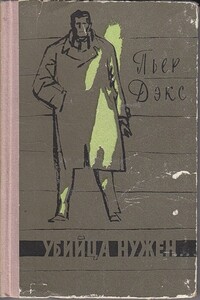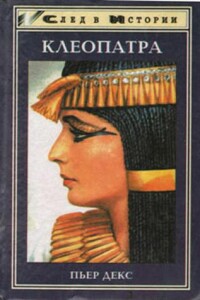Кафе в роли суда
Здесь хорошо видна объединяющая и руководящая роль Бретона. Как пишет Барон, «если бы не было Бретона — такого, каким он был, — сюрреалисты никогда не образовали бы группу по гой простой причине, что никакого сюрреализма не было бы вообще». Но Бретон был домоседом, и «Сирано» превратился в филиал его дома. Бретон не ходил по борделям и ночным клубам наподобие «Дзелли», который посещали одиночки. Поэтому прогулки и ночное праздношатание холостяков типа Ноля или Арагона или несчастливых мужей типа Элюара, по сути, раскололи группу, хотя любовь к Парижу, к его неистощимым сюрпризам, его преображениям и магии, дававшим пищу для воображения, составляла общий фонд, который придаст сюрреализму его неповторимую окраску.
Кафе неизбежным образом превратилось в суд. Именно там улаживали конфликты и трения. Некоторые из них сохранились со времени спячки, например, ссора между Десносом и Кревелем, закончившаяся уходом Кревеля. Другие были связаны с развитием группы. Только в 1969 году, после смерти Бретона, Арагон вернется к этому периоду, написав о том, что уже можно было предугадать по возобновлению автоматического письма: «Власть Андре надо мной еще усилилась в связи с образованием настоящей группы сюрреалистов с новыми членами, моложе нас, которые постоянно старались доказать свою ортодоксальность в пику Филиппу, Полю или мне». Молодые против стариков. Впрочем, из стариков в середине 1924 года оставался только Арагон: Супо ушел в «Европейское обозрение», а Элюар, как мы знаем, исчез.
Вот канва «Волны грез». Тем летом Арагон уже не находился в положении отступника по отношению к ортодоксам ни из-за журналистики (это было дело прошлое), ни тем более из-за «Защиты бесконечности», о которой никто не знал и которая к тому же пока не шла у него. Он все еще задает вопросы Денизе в «Волне грез». Но в основном в прошедшем времени: «Бросаются ли еще люди в канал на улице Ллонг, повсюду, куда вы несете вашу чистую тень и ваши ясные глаза?» Нет, его новое преступление связано с публикацией «Парижского крестьянина» частями в «Европейском обозрении», что ясно говорило о написании романа.
«В тот вечер, — писал Арагон в 1969 году, — в мастерской на улице Фонтен, где было с десяток наших, некоторые с женами… Бретон сказал мне при всех: «Почитай же им то, что ты мне недавно читал. У тебя с собой?» У меня было такое чувство, будто он повернул большой палец к низу перед римским народом. Я пробормотал: «Ты думаешь, надо?» А он, то громко, то тихо: «Читай… им это пойдет на пользу… послужит уроком». Что касается урока, то я в жизни своей не вызывал такого замешательства. Наступила тишина с покашливаниями, скрипом стульев, переглядываниями, гримасами… а потом, в конце концов, одна женщина очень мило спросила: «Дорогой мой, зачем вы тратите время на такую писанину?» После этого разразилась гроза во всю исполинскую мощь… и хлынул поток возмущенных слов. Меня бросило бы в краску, если бы пришлось их повторить. Это было настолько неожиданно, что я даже не получил удовольствия. Настолько несоразмерно…»
В самом деле, такие чтения — один из наименее известных аспектов жизни группы. Андре Тирион в своей книге «Революционеры без революции», изданной в 1972 году (важнейший документ об отношениях сюрреалистов с компартией), говорит о чтениях, состоявшихся в 1928 году, но было бы заблуждением полагать, что чтения 1924 года были на них похожи. Он пишет: это было «очень познавательно, поскольку Бретон открывал таким образом для младших тексты, о которых они не знали и к которым никогда бы не обратились из любознательности… Некоторые из таких чтений возводили препятствия, расставляли ловушки, допускали мелкие предательства». Арагон сохранил привычку к подобным чтениям до конца своей жизни. Я часами слушал «Страстную неделю» или «Гибель всерьез». На самом деле, он читал в основном для себя, совершенно забыв о вас, подправляя свою прозу на слух.
Итак, Бретон подверг Арагона испытанию. Да и всю группу тоже, ибо, на его взгляд, роман — преступление против воображения. В «Манифесте» он обличает «реалистическое отношение, внушенное позитивизмом, от святого Фомы до Анатоля Франса, которое враждебно умственному и моральному подъему. Я терпеть его не могу… Именно оно порождает сегодня нелепые книги, оскорбительные пьесы. Оно беспрестанно укрепляется в газетах и обрекает на провал науку и искусство, стараясь польстить общественному мнению в его самых низменных вкусах; ясность, граничащая с глупостью, собачья жизнь… Приятным следствием такого положения вещей в литературе является, например, обилие романов». По поводу одного описания из «Преступления и наказания» он сказал: «Я не могу согласиться с тем, что разум даже мимолетно способен выдвигать подобные мотивы».