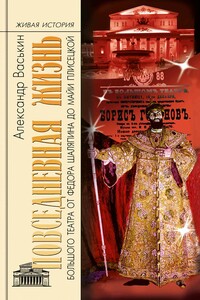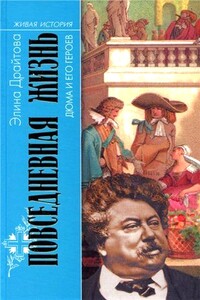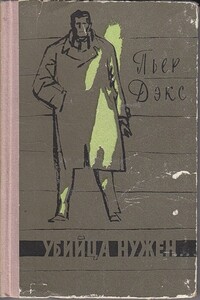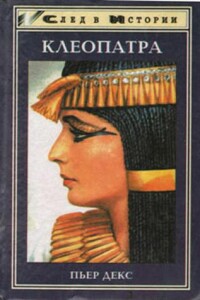Навиль приводит и другое письмо Денизе, на ту же тему, но уже от… Арагона! «Андре деморализован, рад снова видеть Поля, и потом, и потом. И разъярен… Я-то скучал по Элюару, просто невозможно до чего. И мне совсем не важно, что меня в очередной раз провели. Пусть так, раз и навсегда, я решился на это. Теперь все шишки посыпятся на меня, и в социальном смысле я всегда буду виноват… Вовсе не тут я льщу себе тем, что наконец-то оказался прав».
Вот он, тон настоящего Арагона, говорящего, можно сказать, для себя, а не для других. Жаль, что до нас не дошли другие его письма Денизе. Если они когда-нибудь будут обнаружены, то наверняка люди, не знавшие Арагона, изменят свое представление о нем.
Что же касается отъезда и возвращения Элюара, то они открыли истинное лицо тех, кто любил его и верил в него. Это видно по письмам, которыми он обменивался с Нолем. Навиль вспоминал, что Элюар придавал своим тогдашним страстям «длительную форму стихов, которые будут повторять из века в век, вслух или про себя, в зависимости от их достоинств, но всегда с бьющимся сердцем». Позже Элюар написал в «Непорочном зачатии»: «Путешествия всегда заводили меня слишком далеко. Уверенность в том, что я достигну цели, казалась мне только сотым звонком в неоткрывающуюся дверь».
Судя по всему, Элюар вернулся совершенно сломленным. Более близким к самоубийству, чем перед отъездом. «Теперь я не могу пройти мимо Сены, не испытав желания в нее броситься», — говорил он Нолю. «Пусть помолчит тот, кто не плакал каждый вечер своей жизни от глупости людской и от обязанностей, продиктованных ему самой низменной необходимостью», — писал он чуть позже, когда это уже не выглядело откровением. А много лет спустя, в 1946 году, когда Элюар внезапно потерял Нуш,[107] Арагон вспомнил именно об этих днях, боясь в любую минуту узнать, что Поль покончил с собой…
Гала не забрала его с собой в рай. Симона пишет Денизе: «Я никогда не прошу ей не ее ложь, а ее лживое поведение в момент его отъезда. Я испытываю к ней безграничное отвращение. Я не могу простить, когда у меня воруют мои переживания. А тем более у Андре».
Все это произошло непосредственно перед смертью Анатоля Франса. Очевидно, сводя с ним счеты, сюрреалисты старались забыть о неловкости, вызванной возвращением Элюара. Однако эта инициатива исходила сначала не от группы, а от Дриё, давшего на это деньги. Оказалось, что Арагон написал свой текст в поезде, на пути из Гетари, а это значит, что до сих пор он поддерживал связь с группой только через письма. Вероятно, он вернулся вместе с Дриё, который, пожалуй, был даже рад случаю вновь прилепиться к группе. Анатоль Франс же символизировал все то, что ненавидели эти молодые люди, вернувшиеся с войны: «Этот дед смешал с грязью всех, кого мы любим среди наших отцов и дядей».
«Вы уже давали пощечину трупу?»
Бретон решил замахнуться пошире: «Лоти,[108] Баррес, Франс — обведем красивой рамочкой тот год, когда упокоились три этих мрачных персонажа: идиот, предатель и соглядатай. Удостоим третьего особенно презрительного слова, я не возражаю. Вместе с Франсом ушло немного человеческого раболепия. Пусть станет праздником тот день, когда мы хороним хитрость, традиционализм, патриотизм, оппортунизм, скептицизм, реализм и малодушие!.. Не простим ему никогда, что он украсил флаги Революции своей улыбчивой иронией».
Арагон, чувствующий свою вину за роман, то есть за позитивизм Анатоля Франса, в очередной раз оказался вынужден перегнуть словесную палку. Под заголовком «Вы уже давали пощечину трупу?» читаем: «Я считаю любого почитателя Анатоля Франса деградировавшим существом. Мне нравится, что литератор, которого ныне приветствуют тапир Моррас и слабоумная Москва, да еще сам хитроумный Поль Пенлеве,[109] написал, чтобы наварить денег на отвратительном инстинкте, позорнейшее предисловие к одной из сказок Сада,[110] который провел свою жизнь в тюрьме, чтобы получить под конец пинок от этого ученого осла… Бывали дни, когда я мечтал о ластике, стирающем человеческую мерзость…»
Элюар откровеннее всего поведал о только что пережитом в тексте, который написал тогда: «Жизнь, при мысли о которой у меня всегда слезы наворачиваются на глаза, предстает сегодня в образе мелких смешных вещей, чьей опорой служит теперь одна лишь нежность. Скептицизм, ирония, подлость, Франс, французский дух — что это? Глубокий вздох забвения уносит меня далеко от всего этого…»