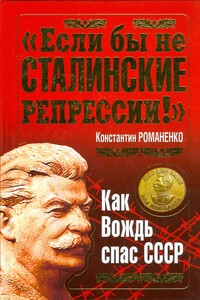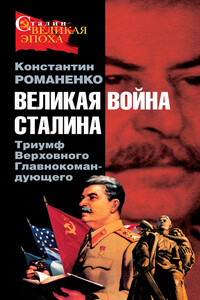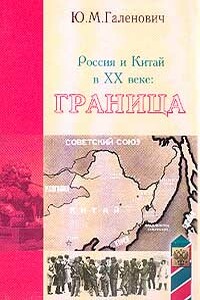Последние годы Сталина. Эпоха возрождения - страница 241
Конечно, это были чисто шкурные интересы, но повторим: Хрущев мог знать, что Берия станет главой соединенных министерств МГБ и МВД, только в том случае, если этот вопрос обсуждался накануне «болезни» Сталина.
С Маленковым, пишет Хрущев, ему удалось поговорить, «как только Сталин умер». «Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать». «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» — «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ. Но я понял по-другому, понял так, что уже все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено. «Ну ладно, — отвечаю, — поговорим потом»[71].
Хрущев понимал, что смерть Сталина еще не означала выход из того сложного и угрожающего положения, в котором он оказался. «Чувствовал, — вспоминал он, — что сейчас Берия начнет заправлять всем. А это — начало конца». Он лихорадочно, но пока еще не выдавая своих намерений, прощупывал членов ЦК, и следующим объектом его вербовки оказался Каганович.
Лазарь Моисеевич вспоминал: «Вместе с Хрущевым я был включен в комиссию по похоронам Сталина, и вот, когда мы ехали в авто с телом Сталина, Хрущев тронул меня за рукав и сказал: «Как, Лазарь, будем жить-то и работать без Сталина? Тяжело будет нам».
Каганович сделал вид, будто не понял глубинного смысла внешне тупого хрущевского вопроса и ответил нейтрально: «…Если будем твердо держаться… ленинского пути, по которому нас вел Сталин, мы выживем и будем успешно двигаться вперед». Хрущев пожал мою руку и сказал: «Ты говоришь правильно, будем все время вместе идти по этому пути, по которому нас вел Сталин».
Даже не зная обстоятельств смерти Сталина, могло бы броситься в глаза, что, кроме Хрущева, такой повышенной нервозности о том, «как мы дальше жить будем?», больше не проявляет никто… Казалось бы, откуда эта обостренная нервозность, если он не чувствовал за собой вины?
Никто не мучается мыслью: «это — начало конца»! И, как показали дальнейшие события, проблемы, «как дальше жить», возникли как раз не у Хрущева. Именно «бесноватый Никита» из этого косноязычного и внешне туповатого зондирования «соратников» сделал далеко идущие выводы. Он найдет тех, с кем будет «жить дальше».
Более того, впоследствии он вычеркнул из жизни всех тех, кто не захотел его понять: сначала Берию, затем Маленкова и Кагановича. «Он всех провел», — скажет Молотов.
Примечательно, что Хрущев не забыл своего сообщника. Бывший министр КГБ Игнатьев, исключенный 28 апреля из членов ЦК, уже на пленуме 2 июля 1953-го — сразу после ликвидации Берии — был возвращен в его состав. Но все это произойдет потом…
За профессором А. Мясниковым приехали, чтобы отвезти на место событий, только «поздно вечером 2 марта». «Состав консилиума, — пишет он, — решил остаться на все время, я позвонил домой. Мы ночевали в соседнем доме». Описывая состояние Сталина, Мясников отмечал: «Он тяжело дышал, периодически то тише, то сильнее (дыхание Чейн-Стокса), Кровяное давление 210-110. Мерцательная аритмия, лейкоцитоз до 17 000. Была высокая температура — 38 градусов с долями. При прослушивании и выстукивании сердца особых отклонений не отмечалось, в боковых и передних отделах легких ничего патологического не определялось.
Диагноз: кровоизлияние в левом полушарии мозга на почве гипертонии и атеросклероза. Каждый из нас нес свои часы у постели больного… Третьего утром консилиум должен был дать ответ на вопрос Маленкова о прогнозе. Ответ наш мог быть только отрицательным — смерть неизбежна. Маленков дал нам понять, что он ожидал такого заключения…
…Сталин дышал тяжело, иногда стонал. Только на один короткий миг показалось, что он осмысленным взглядом обвел окружающих его. Тогда Ворошилов склонился над ним и сказал: «Товарищ Сталин, мы все здесь, твои верные друзья и соратники. Как себя чувствуешь, дорогой?»… Ночью много раз казалось, что он умирает.