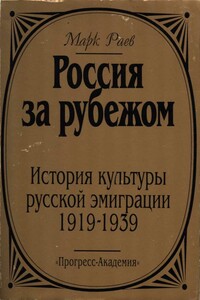Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в Российской Империи - страница 7
21
Главный практический вопрос, стоявший во второй половине XVII века перед московским правительством, звучит так: какими средствами оно располагало, чтобы наложить повинности и подати на тех, кто находился далеко, вне досягаемости царских представителей, особенно на крестьян? Следует ли передать эту задачу и ответственность в ведение местных дворян? Не приведет ли это к ослаблению их повинности по отношению к центральному правительству? Не повлечет ли это за собой развитие местной солидарности и автономии, что, в свою очередь, ослабило бы власть Москвы над служилыми людьми? С другой стороны, не вступит ли в конфликт с целями всеобщей мобилизации и успешного контроля передача административных полномочий (надзора за несением повинностей и податей) в руки традиционных общинных органов, как это было до середины XVI века; и не приведет ли она к материальным потерям для служилых дворян? Правительство так и не смогло разрешить эту дилемму, что и вызвало постоянную нерешительность и колебания политики Московского государства во второй половине XVII века.
Практика литургического государства, принуждение всего населения к несению государственных повинностей - все это приводило также к последствиям психологического порядка. Такая закабаленность предполагает (или порождает) всеобщее единомыслие относительно природы и фундаментального характера политической культуры страны. Когда эти фундаментальные черты в некоторых слоях общества ставятся под сомнение, когда принятие норм служения перестает быть единодушным, наступает моральный кризис (в том значении, которое
22
придавалось этому термину в XVIII веке), гораздо более пагубный, чем внешние опасности и стихийные бедствия.
Московская система службы подчинялась строгой субординации. Боярская Дума составляла вершину пирамиды, затем шли различные ранги придворных, из числа которых набиралась администрация и крупные военачальники. На низших ступенях располагались разные категории провинциальных служилых людей. Чтобы помешать образованию мощной и независимой аристократической олигархии и в то же время удовлетворить требования, основанные на родовых привилегиях, Московское государство изобрело систему местничества, в которой учитывались послужные списки как предков (наследственные привилегии), так и ныне живущих (их собственные заслуги). Никто (кроме как по особому предписанию царя) не был обязан служить под началом человека, чей послужной список - как унаследованный, так и его собственный - был меньше. Сложный расчет места каждого позволял постоянно актуализировать послужные списки, по крайней мере для центральных Приказов и придворных церемоний. Эта система обладала двойным действием: с одной стороны, она обеспечивала царю действенный контроль свыше над служилыми дворянами, так как их ранг зависел от выполняемых ими функций и занимаемых постов, которые жаловал только государь; с другой стороны, поддерживая постоянные элементы конфликта между членами разных семей, в особенности тех, что стремились стать членами Боярской Думы, система местничества мешала образованию общего фронта - тех крепких и стойких связей, которые могли поставить под сомнение абсолютную власть царя. Высшее московское дворянство так никогда и не образовало настоящего, устойчивого "сословия" из-за внутренних
23
разногласий, умело поддерживаемых системой местничества (ее отмена в 1682 году лишь узаконила фактическое положение дел: она устарела вследствие прихода на высшие посты многих людей, не имевших прямых связей со старыми аристократическими кланами). Ясно, что местничество было для служилого дворянства постоянным источником неуверенности и неустойчивости: ранг каждого зависел от милости царя и его благодарности за служебные заслуги.
Опасность, которую могла представлять для московской политической культуры и общества система местничества, с лихвой компенсировалась или даже полностью устранялась обычаями, дававшими внешний выход конфликтам, которые та порождала. Целая система ритуалов служила разрешению споров о порядке местничества, которые заканчивались разбором дела специальными судами (комиссии, составленные из членов Боярской Думы); их решения утверждались в последней инстанции царем. Определенные ритуалы управляли исполнением этих приговоров и урегулированием конфликтов: тот, кто был признан виновным в нарушении порядка местничества или в отказе ему подчиниться, отдавался на волю того, кого он оскорбил