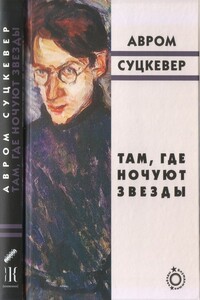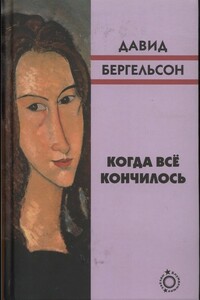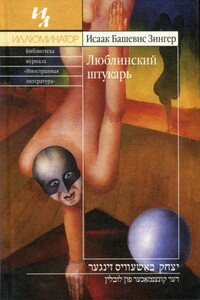Калман подъехал к замку. Собаки залаяли, выскочили из будок, чуть не порвав цепи. Успели забыть хозяина. Кучер Антона проснулся, выбежал во двор. Лошади совсем замерзли. Кучер отвел их в конюшню и укрыл попонами. Калман еле слез с козел. Остальная прислуга тоже проснулась, Калман хотел спросить о Кларе, но промолчал. На кухне топилась печь. Калман сбросил шубу и кафтан, оторвал от бороды сосульки, сел, снял сапоги и вытянул ноги к огню. Вдруг вошла Клара. Поверх ночной рубашки она накинула халат. На ногах шлепанцы, на волосах сеточка.
— Нашел время, когда ехать…
— Ну, главное, все-таки добрался, слава Богу.
Калман сильно проголодался, но оказалось, что Клара рассчитала еврейскую кухарку. Нельзя было выпить даже стакан чаю: вдруг на чайник пролили молоко или суп. Девушки вышли, оставив мужа и жену наедине. Калман, босой, в расстегнутой рубахе, сидел перед открытой печной дверцей и жевал сухую краюшку хлеба, как нищий. Подбросил в печь полено, придвинулся ближе к огню. Лицо горело от жара и от стыда. Клара крутилась по кухне.
— Как Саша? — спросил Калман.
— Саша в Варшаве.
Калман чуть не подавился черствым хлебом.
— В Варшаве? Один?
— Он там в школе учится.
— Ничего не понимаю.
— Чего же тут не понять?
— Где он, у кого?
— Он с бонной. Я служанку взяла и жилье сняла.
— В какой школе?
— В частной.
«Да, пороть меня некому, — подумал Калман. — Зачем вернулся к этой стерве?» Он отломил кусочек хлеба и швырнул в огонь. «Как бы жертва», — пришла в голову глупая мысль. Калман немного отодвинулся от печки, чтобы не опалить бороду.
— А ты по нему скучать не будешь? — спросил он жену. — У меня-то еще дети есть, но у тебя же он единственный.
— Недолго ему осталось быть единственным…
Калман помолчал минуту.
— Когда ты там была последний раз?
— Постоянно туда езжу.
Что ж, все понятно. Она беременна ублюдком. Сняла квартиру для себя и любовника и нашла повод сбегать туда, когда ей заблагорассудится. Несмотря на гнев, Калман удивился, как ловко она все обстряпала. Значит, своим отъездом он сам ей помог… Калман подумал, что нельзя спать с ней в одной комнате, но в других не натоплено, а он опасался простуды. Калман пошел в спальню, лег и накрылся одеялом, но уснуть не мог, хоть и очень устал. Клара тоже не спала, лежала молча, лишь иногда покашливала. Казалось, это кашляет какой-то чужой, незнакомый и недобрый человек. Калман жалел, что проделал такой долгий и опасный путь, но все-таки он понимал, что так было надо. В Маршинове он убеждал себя, что не все потеряно, надеялся, что это ошибка, но шила в мешке не утаишь: теперь ясно, что она ему изменила. Она родила ему сына. Конечно, Саша ест в Варшаве трефное. О примирении не может быть и речи. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь»[202]. Остается только вести войну, но как? Ему здесь даже есть нельзя, в доме не осталось ничего кошерного. Его дом превратился в разбойничье логово… Как бы она его еще отравить не попыталась. Тот, кто встал на путь греха, на все способен…
— Что ты молчишь? — вдруг подала голос Клара. — Когда муж откуда-нибудь приезжает, он все жене рассказывает.
— Что тебе рассказать?
— Когда муж откуда-нибудь приезжает, он жене подарок привозит…
— Что я мог тебе привезти? В Маршинове ничего нет.
— Даже не написал ни разу.
Калману стало противно.
— Что писать, что рассказывать?
— Ну что плохого я тебе сделала?
— Хуже и злейший враг бы не сделал.
— И чего ты к Ципкину прицепился, как идиот? Я не виновата, что ты сумасшедший.
— Я не сумасшедший.
— Нет, Калманка, ты сумасшедший. Вбил себе в голову какую-то чушь. Тебе к врачу надо. И из-за ребенка нечего злиться. Он учиться должен. Я не могу допустить, чтобы из него мужик вырос. Хочешь ему меламеда пригласить, так пригласи, меламедов в Варшаве полно. Найди хоть самого лучшего.
— Он там трефное ест.
— Почему трефное? Служанка — еврейка.
— Зачем ты кухарку выгнала?
— Это из-за тебя, Калман. Ты уехал, зачем ее держать? Останешься дома, будешь вести себя как человек — все будет кошерное. Майер-Йоэл на меня смотрит, как на воровку. Лицемер чертов!
Калман знал, что каждое слово Клары — ложь. Но ложь обладает дьявольской силой. Гнев начал слабеть, и подкралось желание. Было в ее голосе что-то такое, что ласкало и завораживало, и усыпляло, и возбуждало. Не много таких, кто может устоять перед ложью и лестью. Только что Калману хотелось избить Клару, а теперь захотелось целовать. Он долго молчал, прислушивался к себе, к своим чувствам. Калман знал: если он сейчас помирится с ней, он пропал. Она будет об него ноги вытирать, он буквально отдаст душу в руки сатане. Но его тянуло к ней, и он сопротивлялся из последних сил. Дьявол шептал ему на ухо, что надо махнуть на все рукой и лечь с Кларой, обнимать ее, целовать в губы, слушать ее нежные и бесстыдные слова… Калман сел.