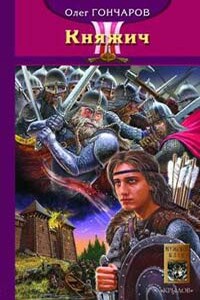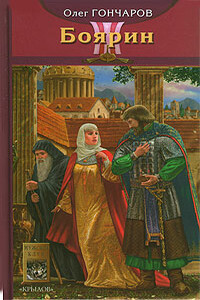Препирались старые вой, а я все думал: «Может, прав Заруб? Мало ли что девчонкам с перепугу пригрезится могло. Увидали драккар и обмерли. Однако насчет стрел Малуша врать не будет…»
— Ну? Чего пригорюнился? — вырвал меня из дум Кислица.
— А чего мне горевать? — сказал я ему. — Коли пожалуют гостечки, так и встретим их, как подобает.
— Вот это другой разговор, — притопнул Веремуд, — сразу видно: порода боевая. Весь в деда пошел.
— А ты что, деда моего знавал? — удивился я.
— Нискиню-то? — сказал Кислица. — Как не знать? Рубака был отчаянный. Жалко, что ты его не застал. Храбро он с нами вместе под Цареградом бился…
— А потом против нас на Ирпене сражался, — добавил Веремуд. — Приятно было с ним мечи скрестить. — Он немного помолчал и выложил: — Это же мой клинок его кровью напился. А потом уж меня батюшка твой приголубил. Вот и памятка от него, — оттянул он ворот рубахи, шею заголил, а на ней шрам. — Думал уж, что рядом с дедом твоим за один стол в Вальхалле сядем да попируем всласть. Не вышло, — вздохнул старик, — Заруб меня из боя вынес…
— Опять мне кости моете? — вышел со своего двора Заруб-ратник.
Кольчуга на ратнике впрямь, как новая, наплечники блестят, за поясом топор точеный, на плече телепень [49] повис, усы по-боевому в косички заплетены, только оселок не прикрыт.
— Шелом-то где? — Кислица ему.
— А-а, — махнул рукой Заруб. — Не углядел я. Бабка моя его вместо корца приспособила. Говорит, удобно свиньям месиво им накладывать — по три шлема на рыло.
— А доспех чем смазывал? — прищурился на него Веремуд.
— Чем-чем? Маслом коровьим. Всему вас, варягов, учить надо. Привыкли все нахрапом брать, оттого и бережения не знаете. Ты чего здесь, старый хрен, сказками забавляешься? Мы уж ополчились, а ты, я вижу, решил лихоимцев голыми руками давить да до смерти язычиной своей забалтывать?
— Ох, и верно! — всплеснул руками Веремуд. — Сейчас я. — И на свой двор поспешил.
Помню, что удивился я тогда. На себя удивился. И пока в теремок за луком бегал, все в толк взять не мог: почему я так спокойно отнесся к признанию старого ратника в том, что это он в смерти деда моего повинен? Еще совсем недавно я бы ему спуску не дал. Вцепился бы в глотку не хуже того волка, что меня в детстве напугал. Мстил бы за кровь древлянскую, Beремудом пролитую, за род свой, за деда Нискиню. А теперь смолчал.
Может, потому, что деда не помню? Матушка мною тяжелая ходила, когда он на бранном поле лег. А может, потому, что уже полтора года мы со стариком Веремудом в ладу живем, и он мне стал первым советчиком? И тот давний бой меж дедом и варягом по Прави был. Честно в поединке они мечи свели, и сам Веремуд кровью своей расплатился. А теперь вот со мной против неизвестно кого встанет и спину мне прикроет.
Вот ведь какие странности жизнь с нами порой вытворяет. Всего три года назад мы друг другу врагами смертными были, а ныне плечом к плечу биться собрались. Я древлянин, Кислица с Зарубом поляне, а Веремуд и вовсе варяг.
Потешаются Пряхи, кудели свои завивают, загадки подкидывают, на которые отгадок век не сыскать. А может, потому я таким спокойным оказался, что опасность надо мной и над ними одинаково нависла? Или посчитал, что старые споры на потом отложить можно? Или вдруг осознал, что сам русеть начал?
Почти все собрались, только Малуши с близнецами-пастухами все не было. Я уже беспокоиться начал, как бы чего не случилось. Но вскоре из леса раздался собачий лай, на опушку выскочили два здоровенных волкодава, а вслед за ними показались двое мальчишек и сестренка моя… а с ними еще один человек. Незнакомый.
Насторожило меня это появление. Еще больше насторожило, что незнакомец в отдалении, на опушке, задержался, когда пастушки к нам поспешили.
— Это кто таков? — спросил я Малу.
— Приблудный он, — за сестренку ответил один из пастушков, толи Твердош, то ли Твердята, никто близнецов в Ольговичах различить не мог, даже мать родная.
— С утра раннего к нам прибился, — сказал второй, — хлебушка с молоком попросил. Мы его и накормили. А что? Нельзя, что ли?
— И собаки его приняли, — поддакнул первый, — лаять не стали. Мы его и приветили.