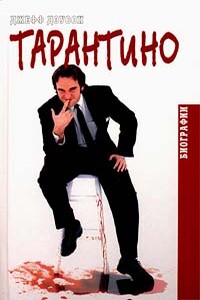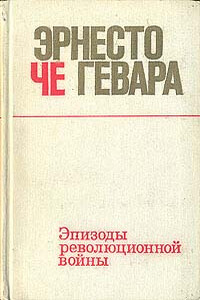Военные действия земского ополчения под Москвой получили достаточно полное освещение в исторической литературе. Последнее по времени издание (1986 год) — интересная и эмоционально написанная книга Р. Г. Скрынникова «На страже московских рубежей». Обилие литературы по данной теме позволяет нам взглянуть на События только глазами военного историка, специально выделив личное участие воеводы Дмитрия Пожарского в боях под Москвой.
Ополчение выступило из Ярославля 26 июля 1612 года. Рати двигались с большим обозом, с тяжелыми пушками — воевода не исключал, что придется штурмовать крепкие стены Москвы, для чего понадобился бы и «осадный наряд», и значительное количество боеприпасов. Приходилось везти с собой много продовольствия, потому что окрестности столицы давно разорили казацкие «таборы» и неоднократно подступавшие к городу польско-литовские войска. Неудивительно, что ополчение двигалось медленно. К тому же Дмитрию Пожарскому приходилось поджидать в условленных местах подкрепления, посылать в разные стороны отряды для изгнания интервентов из близлежащих городов. Так, во время стоянки ополчения в Переяславле-Залесском стало известно, что «черкасы» и «литовские люди» неожиданно захватили Белоозеро, туда пришлось срочно посылать четырех казачьих атаманов со станицами, сотню стрельцов.
Еще раньше к Москве были посланы два передовых конных отряда, общей численностью примерно в тысячу сто человек. Они заняли позиции между Тверскими и Петровскими и между Петровскими и Никитскими воротами, прикрыв дорогу на Смоленск, по которой ждали подхода гетмана Ходкевича. Серьезной военной силы эти отряды собой не представляли, но неожиданные маневры гетмана Ходкевича были предупреждены: обойти заставы Дмитрия Пожарского он никак не мог. Почти в полной блокаде оказались засевшие в Кремле Струсь и Будила — по другую сторону Москвы стояли казаки Трубецкого.
14 августа главные силы разбили лагерь под стенами Троице-Сергиева монастыря. Здесь Дмитрий Пожарский простоял четыре дня, выжидая. Часть казаков из лагеря Трубецкого уже перешла на сторону ополчения (например, атаман Кручина Внуков «с товарищами»), но сам Дмитрий Трубецкой выжидал, не соглашаясь на переговоры с вождями земского ополчения. Однако дольше медлить было нельзя, передовые воеводы Дмитриев и Лопата-Пожарский доносили о приближении гетмана Ходкевича. К Москве был немедленно послан отряд князя Василия Туренина, получивший приказ укрепиться у Чертольских ворот. Вся крепостная стена, прикрывавшая Москву с запада, была теперь занята русскими войсками. Воеводы Дмитриев, Лопата-Пожарский и Туренин насчитывали немного ратников, но продержаться до подхода главных, сил и связать противника боем они могли. Надеялся Дмитрий Пожарский и на помощь казацких «таборов», которые князь Трубецкой навряд ли сумеет удержать в своих лагерях, если под Москвой начнутся бои. Как показали дальнейшие события, воевода не ошибся.
18 августа 1612 года воевода Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин выступили из лагеря под Троице-Сергиевым монастырем и 20 августа достигли предместий Москвы. Они остановились в районе Арбатских ворот, прикрывая Москву с запада. У Яузских ворот стоял со своими казаками князь Трубецкой. Теперь он сам попытался договориться с вождями ополчения, даже выехал им навстречу в сопровождении бояр. Но сразу стало ясно, что высокомерный князь претендует на главенствующую роль в земском ополчении — он был, по тогдашнему местническому счету, старшим по чину и знатности. Переговоры закончились безрезультатно. Князь Трубецкой вернулся в свой лагерь, а Пожарский начал укрепляться на Арбате. Острожки верно служили ему и Скопину-Шуйскому в прошлых боях, надеялся на них воевода и сейчас. Позиция князя Трубецкого по-прежнему оставалась неясной, а своих сил у Пожарского не хватало: к Москве успело подойти не более одной трети ополчения. Силы князя Трубецкого тоже были незначительными, немалую часть казаков атаман Заруцкий увел в Калугу.