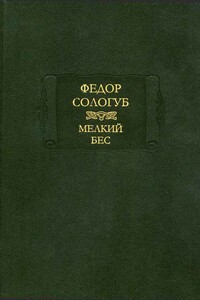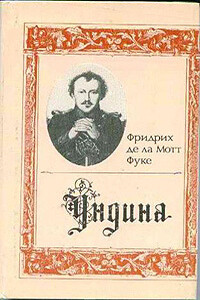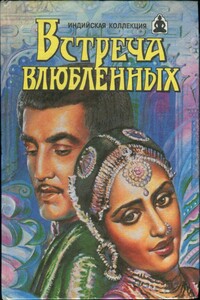Оттого-то в девятнадцать лет она такова, каков бывает самый милый, умный, очаровательный ребенок в двенадцать лет.
Боже мой! Не оттого ли я так отчаянно, так страстно люблю ее? Рано начавшиеся мои успехи между женщинами давно сделали меня холодным только ценителем женской красоты. Чтобы вывести меня из апатического состояния, требовалась страсть причудливая, почти бессмысленная в своем зародыше. И страсть эта отыскалась: я влюбился не в женщину, а в ребенка.
Страсть эта не есть любовь к женщине: это любовь к ангелу, поразившему меня своей детской прелестью, к ангелу, который знает нашей жизни настолько, чтоб уметь говорить с нами.
Старое сравнение женщин с ангелами! Я употреблял часто это сравнение и каюсь в том, как в святотатстве. Женщины хороши сами по себе, но ангелом называю я и буду называть только одну из них.
И прав Полиньки на имя ангела никто не посмеет оспоривать. В ней все ангельское: и лицо ее, с которого скульптор может взять облик для статуи амура, и миниатюрность ее стана, и чудная доброта ее сердца, и способность к преданности, способность любить, разлитая во всем ее существе.
Но, горе мне! эта способность любить, источник всех женских добродетелей, неправильно развита в ней, не сознана ею. Она является во всем: и в преданности к угрюмому мужу, и в любви к родителям, которые гроша не стоят, и в страсти к птичкам и собачкам, и в участии ко мне, когда я плачу у ее ног.
И если бы мне удалось сосредоточить эту потребность любить, устремить ее на себя… не знаю, остался ли бы я жив, не умер ли бы я от восторга перед ее глазами?..
По-видимому, отношения мои к ней зашли до крайности далеко: я бываю у нее каждый день, целую ей руки, толкую ей прямо про мою любовь, обнимаю ее и целую. Когда она хочет остановить меня, мне стоит только с грустию взглянуть на нее, приложить ее ручонку к пылающей моей голове… и милое дитя все забывает, позволяет мне целовать себя, грустит вместе со мною. Всякой бы сказал, что мне следует радоваться, не помнить себя от восторга, а приходя домой, я терзаюсь в глубине души, рву на себе волосы.
Какая польза мне в том, что она постоянно танцует со мною на балах, дома позволяет целовать себя, говорит мне, что ей самой приятно на меня смотреть, что я «так хорош собою»? Она то же скажет, то же может сделать и при муже.
И ни слова о любви, ни малейшего признака той страсти, которая в этот один месяц совершенно истерзала мою душу!
Один только раз, пусть будет благословен тот день! — вызвал я от нее что-то похожее на чувство, которому нет названия. Без этого, сестра, я бы не писал к тебе писем: еще неделя такой жизни, — говорю тебе просто и открыто, — я наложил бы на себя руки.
Теперь же, благодаря этому сладкому воспоминанию, спокойствие по временам входит в мою душу. Я могу тебе писать отчетливо и спокойно.
Ты догадываешься, что Сакса нет в Петербурге. Перед отъездом поручил он своему приятелю Запольскому, сочинения которого и ты иногда почитываешь, развлекать по временам Полиньку и не давать ей скучать. Запольской хорош и со мною, знает, — что m-me Сакс постоянно была близка к нашему семейству, а потому я сумел устроить дела так, что он, как человек занятой и сам женатый, взял меня к себе в помощники. Мы провожали Полиньку в театр, дома рассказывали ей все новости, привозили ей игрушки из английского магазина, читали ей журналы, пели ей вечное «Fra poco» и «Stabat mater»[49].
Дня три тому назад, вечером, Запольский принес к ней кучу нот и картин, а сам отправился доставать билет в театр на этот же вечер. Я остался один с Полинькою. Она просила меня петь, я разбирал ноты, мы толковали о тебе, я рассказывал ей про свои корпусные шалости, а при этом дельном разговоре руки и ноги мои были холодны, вся кровь кипела около сердца.
Несколько теноровых партий, валявшихся передо мною, были так пошлы, усеяны такими вывертами… а мне хотелось петь; музыка всегда меня облегчает в подобных случаях.
В это время между нотами отыскал я молитву, знакомую мне хорошо… Чья она, не припомню, да и не до того мне.
Я пел эту молитву и думал о Полиньке. Я молился моему ангелу, и, верно, молитва моя была не холодна.