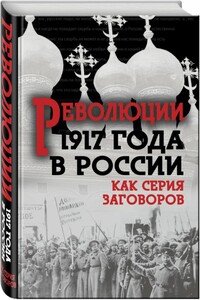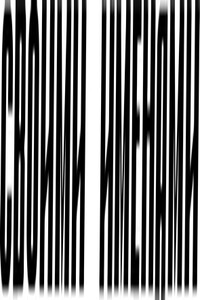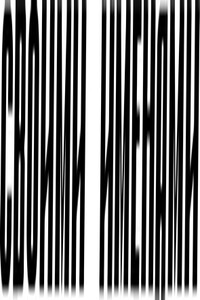Но все это — сухие факты, все это можно прочесть в честном учебнике (хотя такие учебники сегодня редко попадаются). А я хочу сказать о том, что я сам видел и ощущал, что в учебники не попадает. Скажу об ощущениях детства.
Родился я в 1939 году в Москве. Первые четкие воспоминания у меня остались от предвоенного лета 1941 года. Вот отец берет меня на руки. А вот мы ждем на пристани пароход, чтобы плыть в воскресенье по Москве-реке, и этот пароход приближается под музыку. Я был восхищен — белый пароход казался мне живым, плывет к нам по реке и поет.
Потом — война, которая разделила всю жизнь нескольких поколений на две части: до войны — и все, что было после этого. Даже много лет спустя дети рассказывали друг другу легенды о том, как все прекрасно было до войны.
Вспоминаю себя осенью 1941 года. Иду я и несу на спине вещмешок с моими «личными вещами» — в эвакуацию. А какая-то старуха на тротуаре плачет и протягивает мне руки — ей было страшно, что мальчик в два с половиной года несет на спине большой мешок с вещами.
Ехали в товарных вагонах, долго. Помню, снимали на доске тело умершей женщины. Потом как-то ушла мать, а поезд тронулся, она бежала за вагоном, и женщины ей подали доску и втащили. Я стоял рядом и боялся, что она сорвется под колеса. Эти образы выплывают из памяти, как из тумана. Помню, ехал в вагоне мужчина (видимо, была бронь). Он на остановках покупал в бутылку молоко, потом вынимал кружку, садился в вагоне и пил маленькими глотками. Дети подходили к нему и плакали, среди них моя сестра. Матери уговаривали их не плакать, и они плакали тихо, почти неслышно, стеснялись. Помню, что жалко было этих детей, а мужчин таких сегодня что-то много развелось. А так мне всегда казалось, что тот один только и был в СССР.
Привезли нас в Михайловку, в глухой степи Кустанайской области. Из райцентра везли на тракторных телегах. Почему-то они шли по степи не колонной, а цепью, в один ряд, и это было очень радостно. С этого момента вся моя жизнь — как на ладони, я стал сознательным человеком. Мне кажется даже, что с тех пор я лишь накапливал опыт, а мой ум и представление о людях не менялись.
В селе уже не было мужчин — старики, женщины и дети. Русские и казахи. И мы, как говорили в деревне, выковырянные (эвакуированные). Нас разместили по избам. Хозяином у нас был старик с девочкой-внучкой, Веркой. Вскоре к нему поместили еще одну семью — немцев, выселенных из Поволжья. Матери наши сразу пошли работать, зимой в школе, а летом в поле. А мы играли и, играючи, помогали взрослым. Помню, наш хозяин сделал моей матери выговор: «Твой, когда картошку чистит, слишком толсто срезает». Он сказал это сурово, но мне не было ни страшно, ни обидно. Он мне помогал, и я его часто вспоминаю, когда чищу картошку.
Играли мы вместе — русские, казахи, немцы и евреи, были и других национальностей. В нашей детской жизни отражалась жизнь взрослых, а там шовинизма не было ни в традиции, ни в идеологии. Казалось бы, наши отцы в то время массами гибли под ударами немцев, а здесь — вот они, немцы, отселенные с Запада как потенциальные союзники наступавших гитлеровских войск. Но ни у кого и в мыслях не было обидеть их подозрением. И играли, и дрались, не проводя никаких параллелей с войной.
Как-то наш хозяин ездил с обозом на санях в Кустанай и привез четыре пряника — своей внучке, мне, моей сестре и мальчику-немцу. Старику и думать об этом не пришлось — будь у него денег на один пряник, он разделил бы его на четыре части.
Это сегодня мне приходится об этом думать, когда мой коллега, философ и историк Д.Е.Фурман пишет с непонятным злорадством в престижном академическом журнале, что «хотя русские ограбили немцев в результате войны, хотя они выбросили немцев Поволжья умирать в казахстанской степи, все равно немецкий крестьянин жил, живет и будет жить лучше русского». И думаю я об этих словах потому, что этот профессор — не дешевый идеолог, продавший свое перо очередной власти, а типичный интеллектуал и себя уважает. Я даже могу понять его антирусский пафос — увлекся перестройкой. Я поражаюсь выверту критериев. Ведь когда он говорит «жить лучше», он сравнивает лишь то, что у русского и немца в тарелке. Вот если бы я знал, что немецкий крестьянин во время войны привез из города два пряника и отдал один своему сыну, а другой русскому или белорусскому мальчику (а около миллиона советских мальчиков и девочек фашисты вывезли во время войны для работы у немецких крестьян) — и это было нормой, — тогда бы я сказал, что немец и мой старик-хозяин живут в одном измерении, и их жизнь можно сравнивать по другим показателям. А без этого — понятия лучше или хуже не имеют смысла. Раньше человеку, претендующему на звание интеллигента, это было очевидно.