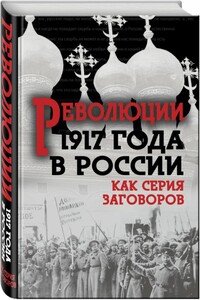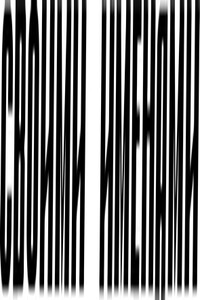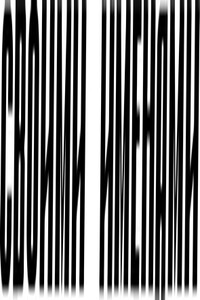Русская идея: рубежи обороны
В новое тысячелетие наш народ вошел в состоянии смуты. Длится она уже целый век. Лишь на короткое время прямой угрозы с Запада, а потом большой войны в середине века народ соединился в одну семью. Но для этого пришлось каленым железом выжечь инакомыслие — инстинкт заставил на это пойти. Нам льстят, когда называют то время «казарменным социализмом». Это был «социализм окопный»! Но когда в тебя стреляют из всех калибров, окоп — самое лучшее место. Вокруг чего же мы тогда соединились в нашей земной жизни? В том, вокруг чего соединились, видимо, и была главная идея народа — она и есть русская идея.
Надо говорить именно о земной жизни, только в ней народ — главное лицо. Мне кажется, что когда русскую идею смыкают с Православием, то неправомерно смешивают небо с землей. Ведь перед нашим Богом все люди — братья. Души уже не принадлежат народу, они не носят ни сарафана, ни черкески, ни даже бренного тела. Конечно, совесть каждого народа задана его религией, но не сливается с нею. Мы получаем «сигналы свыше», но за свои идеи, слова и дела отвечаем сами.
Почему же только перед лицом угрозы уничтожения появилась в нас острая потребность соединения? Такая острая, что приняли и жертву коллективизации, и перегрузки невиданной индустриализации, и даже кровь ГУЛАГа. Думаю, здесь — одно из наших важных свойств, часть нашей идеи. Это — потребность мыслить, быть духовным странником и землепроходцем. Мы постоянно отрицаем свое состояние, принимаем, хотя бы в мыслях, состояние «другого». Для такого перемещения мы всегда имели пространство. «Россия — избяной обоз». Крестьяне убегали от власти в казаки, а казаки становились государственниками и шли осваивать Сибирь и Америку. И никто не становился «человеком массы».
Мы отказываемся от этого лишь в самый крайний момент и лишь на краткий исторический миг. Даже когда пришлось русским собраться в тоталитарное общество, это был тоталитаризм военного отряда, а не лагерного барака. Прошла смертельная опасность — и мы снова странники. Понятно, как дорого обходится всем нам эта роскошь — ничто так не губит наше благополучие, как всеобщее инакомыслие, эта наша свобода. Посмотришь, как удобно живет средний европеец и как он по-куриному мыслит, — и порой возникает соблазн: хоть бы какой-нибудь черт вышиб из наших голов это постоянное «отрицание отрицания». Поменял бы радость и мучение непрерывной мысли и сомнений на сытый комфорт.
Сохраним ли мы эту главную русскую волю? Гарантии нет. Уж очень большие силы нас подтачивают и соблазняют — и нужда, и телевидение, и учебники Сороса. Гарантии нет, но надежда есть. Пока что человек держится — Пушкин помогает и нужда ведь не только отупляет, но и просвещает. Да и Церковь православная подставила плечо, хотя, вроде, не ее это дело — поощрять свободомыслие. Но такова уж она, вырастила на нашей земле культуру, которая сделала русского человека соборной личностью, а не индивидом, не механическим атомом человечества. Самой Церкви, видно, трудно приходится с таким человеком, но, спасибо ей, не снижает духовного требования, не укорачивает человека.
Вот, для меня, первая ипостась русской идеи: человек — личность. Поднявшись до соборности, осознав ответственность, ограничив свободу любовью, он создает народ. А значит, он не станет человеческой пылью и в то же время не слепится в фашистскую массу индивидов, одетых в одинаковые рубашки («одна рубашка — одно тело»).
Мы не замечаем даже самые великие ценности, когда они привычно нас окружают. Не замечаем же мы, какое это счастье — дышать воздухом. Так же жили мы среди наших людей и не замечали этого их чудесного свойства — каждый из них был личность. Он все время о чем-то думал и что-то переживал. Посмотрите на лица людей в метро. Не боясь окружающих, люди доверчиво уходят в себя, и на лице их отражаются внутренние переживания. Один горестно нахмурился, другой чему-то улыбнулся. В метро Нью Йорка все лица похожи на полицейских — все одинаковы, все вежливы и все настороже. Они как будто охраняют хозяина.