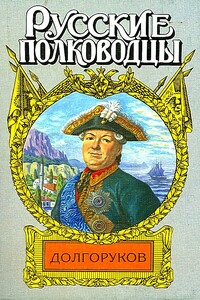Долгожданный договор между Россией и Крымским ханством существенным образом укреплял позицию русской стороны — теперь с турками можно было разговаривать более решительно.
С первых минут восьмой конференции Обресков повёл себя напористо:
— Я прежде многократно объяснял, что взаимная безопасность границ обеих империй крепко связана с совершенной независимостью татарской нации. И мне не понятно то упорство, с которым вы отказываетесь признать очевидную вещь.
Абдул-Резак уловил перемену настроения русского посла, но о причинах её пока не догадывался.
— Я не требую отнять у татар вольность, — натянуто сказал он, ощупывая Обрескова настороженным взглядом. — Но сами татары не станут жаловаться на Россию, если между нами учинится подобное постановление, иметь которое они не желают.
— Не желают?
— Конечно.
— Откуда такая уверенность?
— Я знаю татарские мысли.
— В таком случае позвольте показать вам вещь, удостоверяющую как раз в обратном.
Алексей Михайлович достал из папки бумаги, полученные от Щербинина, переводы и протянул их рейс-эфенди:
— Вот декларация татар, которая подтверждает, сколь они желали и ныне желают вольности... Об этом, кстати, уже сообщено всем европейским дворам.
(Последние слова он прибавил от себя, чтобы придать больший вес свершившемуся факту).
Абдул-Резак с застывшим, непроницаемым лицом долго читал переводы, потом неуверенно, с кислой гримасой произнёс:
— Я сомневаюсь касательно подлинности сих бумаг.
Обресков изумлённо посмотрел на него:
— То есть как сомневаетесь?.. Вы хотите сказать, что мы пошли на подлог?
— Я этого не говорил... Но мне трудно понять: коль вы сами утверждали ранее, что Россия по вхождении в Крым могла истребить, пленить или рассеять татар, то зачем вам ныне делать их вольными?
— Это проявление милосердия, свойственного человеколюбию её императорского величества!
Абдул-Резак кинул быстрый взгляд на лежащую перед ним декларацию, поднял голову, мрачно сказал:
— Из всего того явствует, что татары принуждены были просить независимость, хотя внутренно оной не желали. Она несёт на себе образ принуждения, как, впрочем, и всё вами в Крыму сделанное... Я не могу верить этой декларации.
— Желание искать вольность дано от природы каждому человеку. А эта декларация формально подтверждает желание татар быть таковыми.
— Я не верю ей, — повторил рейс-эфенди.
— Да почему же?!
— Некоторое время назад Блистательная Порта получила другую декларацию, многим числом татар подписанную и печатями утверждённую. Она противна вашей!
Заявление оказалось неожиданным для Алексея Михайловича.
— У вас есть татарская декларация?
— Да... Но другая.
— И вы можете её показать, как это сделал я?
— Я не привёз её с собой.
— Почему?
— Не считал нужным.
— Значит, декларации у вас нет?
— Сейчас нет.
— Странно получается. Вы не хотите верить тому, что лежит перед вами на столе, но полагаете, что я поверю в существование документа, который не могу прочитать.
— Я уже сказал вам, что та декларация противна вашей. Я могу послать в Стамбул нарочного — он привезёт... Правда, не раньше двух-трёх недель.
— Так долго?
— Сейчас осень — дороги плохие. Раньше нарочный обернуться не успеет.
Обресков задумался... «Конечно, подлые татары могли написать несколько деклараций... Но подписали ли?.. Вполне возможно, что рейс-эфенди просто придумал её, увидев предъявленную мной...»
Алексей Михайлович решил схитрить: согласиться с турком, что такая декларация есть, но обязательно заставить его признать в силе декларацию, присланную Щербининым.
— Я полагаю, что в Крыму поныне находятся люди, привязанные к Порте и смущающие татар чинением там замешательств, — сказал Обресков. — Но не они есть татарский народ! Их подписи не имеют силы.
Абдул-Резак ответил небрежно:
— Да, там есть несколько наших агентов, которым татары подали декларацию для доставления в Стамбул. Но именно эту декларацию, утверждённую татарскими начальниками и значительной частью татарской нации, следует считать свободной. А предъявленная вами — сделана под диктовку оружия.