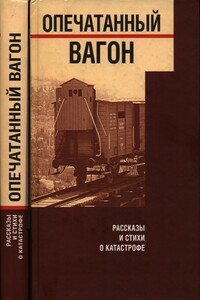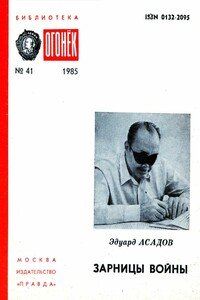— Теперь я понимаю.
Он ответил тоже шепотом:
— Что?
— Вашего товарища. Глупо я повела себя сначала.
— Что вы, вовсе нет. Он замечательный человек.
Несколько мгновений они молчали.
— Я бы хотела…— шепнула она.
— Что?
— Чтобы мы уже были во Львове.
— Я тоже. Вы из Львова?
— Нет. Из-под Кракова. А вы?
— Я? Теперь уже ниоткуда.
Хотя Станецкий стоял рядом с ними и слышал их шепот, слов, однако, разобрать не смог. Он машинально повернул в их сторону голову, но как раз в этот момент они смолкли. «Эх ты, старый дурак», — подумал он. Он выпрямился, а чтобы взбодриться и отогнать подступающую усталость, решил припомнить и упорядочить данные, которые должен был передать командованию львовского округа Армии Крайовой. Но проговорив про себя первые фразы, понял, как они пусты и бессмысленны. До него снова долетел шепот молодых. Он закрыл глаза, но сон не шел, лишь сильнее становилось ощущение разбитости.
Тем временем на станциях поезд осаждали новые пассажиры. Утомленные охотой на людей немцы куда-то исчезли. На ступеньках теперь ехали без опаски, даже горланили песни.
На одной станции, прямо за Ярославом, из купе, окна которого выходили на темный перрон, вдруг послышался громкий свист. Снаружи ответили тем же. И тогда незамедлительно прямо на головы пассажиров через окно посыпались мешки и чемоданы, а затем таким же образом в вагон ввалились огромные черные тела. Сдавленные со всех сторон люди, которых так неожиданно вывели из дремотного состояния, зашевелились, задвигались, женщины подняли крик, стали звать на помощь полицию, а пронзительный свист в темноте не прекращался. Уже третий верзила лез в окно. Чтобы отпугнуть непрошеных гостей, один мужчина стал что-то выкрикивать на плохом немецком языке. Те же в ответ рассмеялись и продолжали протискиваться внутрь. Вскоре они нашли друзей, которые сели в Дембице, и теперь уже никакая сила не могла заставить ребят покинуть купе.
Доманской во время этой кутерьмы стало дурно. Первым заметил это Станецкий. Он вдруг почувствовал, как тело женщины безвольно оседает на его груди, и поддержал его плечом. И тут же рядом с собой услышал тяжелое, хриплое дыхание; наклонился, чтобы взглянуть Доманской в лицо. В купе было темно — хотя поезд еще стоял на станции, — и он поэтому скорее ощутил, нежели увидел, очертания склоненной на плечо головы. Дыхание женщины прерывалось и замирало. «Смерть», — промелькнула мысль. Алинка тоже заметила, что с Доманской неладно.
— Пани Анна, пани Анна, — позвала она.
А услыхав, как та тяжело дышит, поняла, что дело плохо.
— Не волнуйтесь, Алинка, — подбодрил Станецкий.
Он взял Доманскую за руку, но пульса почти не было. Под пальцами едва ощущались слабые толчки. Поезд уже тронулся, а вместе с ним в движение пришла стиснутая до предела масса людей. Парни, влезшие через окно, пихались все беззастенчивее. Мужчина, которому ничего не удалось добиться с помощью немецкого языка, теперь ругался по-польски.
— Люди! — крикнула Алинка. — Здесь больная женщина, не толкайтесь.
В вагоне немного притихли.
— Где больная? — спросили из глубины. — Что случилось?
И сразу послышалось отовсюду:
— Мы все больные.
— Сиди дома, коли больная!
— Да не толкайся ты, черт возьми, не то врежу, — придушенным голосом пропищала женщина.
— Сама заткнись, — рявкнул в ответ мужчина.
— Хам!
— От хамки слышу!
— Люди! — закричала Алинка.
В ее голосе зазвучало такое отчаяние, что все умолкли. Мужчина с повязкой на глазу пошире открыл дверь, а сам встал на ступеньку, освобождая побольше места для женщины. В купе ворвался свежий воздух.
— Лекарство, может, у кого-нибудь есть лекарство? — попросила Алинка. — От сердца.
— Первача, может, дать, — послышался голос стоящего у окна парня.
— Не дури, — унял его другой.
Станецкий продолжал следить за пульсом Доманской.
— Ничего не поделаешь, — сказал он, — придется сойти на ближайшей станции, другого выхода нет.
Алинка уцепилась за это предложение, как утопающий за соломинку.
— Я тоже сойду. Пани Анна, вы слышите меня? Мы сейчас сойдем, и вам будет лучше.
«Сейчас начнется спектакль благородства», — подумал Станецкий.