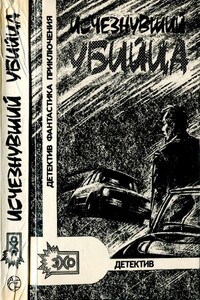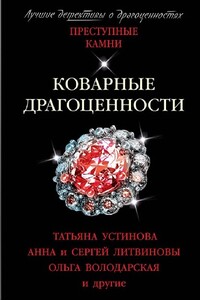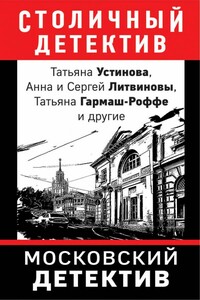— Что ж ты и сейчас… мне мешаешь?.. — пытался выбраться из–под тела управляющего.
Когда налетчики ворвались в комнату и начали, без лишних слов, пальбу, Сидоренко стоял как раз над арестованным. Шесть выстрелов достались ему и управляющему почти поровну.
Сейчас управляющий был мертв, но, падая, он вцепился в ноги Сидоренко и сейчас держал их окоченелой цепкой хваткой.
— Ну, отпусти же, отпусти! — хрипел Сидоренко, чувствуя, что через минуту–другую у него уже не достанет никаких сил доползти до телефона.
Шмаков и два матроса, оставшиеся при нем, попытались было с ходу скатиться по лестнице вниз, — но туг же отпрянули назад, встреченные хоть и малоприцельными, но частыми выстрелами.
Один из матросов сидел теперь у стены и баюкал раздробленную в кисти руку.
Шмаков, пристроившись за колонной, настороженно ждал.
Перед ним висело огромное, в два человеческих роста, зеркало. В нем отражался полусумрак нижнего этажа. Кратко и осторожно перебегали там тени. Нападавших было четверо.
Наконец Шмаков увидел в зеркале: человек в коротком черном пальто, с маузером в опущенной руке, подошел к подножию лестницы, несколько раз жадно затянулся папиросой и, сказав что–то в темноту подъезда, быстро побежал по лестнице вверх.
Остановившись под зеркалом и держа маузер у живота двумя руками, человек стал быстро стрелять по второму этажу — наугад.
Шмаков был наготове.
Зеркало вдруг тихо разъялось на три огромные косые пластины. Пластины скользнули вниз и разлетелись, засыпав морозной дребезгой легшего ничком человека.
«А где Стрельцов? — спохватился вдруг Шмаков. — Что–то крикнул, а что именно — я не расслышал. Исчез…»
Тотчас же он вспомнил про Европеуса, оставшегося у тайника, и скверное чувство — то ли опасности, то ли досады — охватило его.
…Сидоренко очнулся и понял, что потерял сознание, рванувшись из–под трупа и, кажется, вырвавшись.
Попробовал ползти, помогая себе истошными, гортанными стонами при каждом движении. До телефона было далеко, метра три, не меньше.
«Вот, — сказал он себе через некоторое время. — Теперь самое главное. Все, что было раньше, — чепуха. В сравнении вот с этим. Надо встать».
Нужно было встать и какое–то время стоять возле аппарата, вызвав номер чека. Дождаться ответа, успеть рассказать все, как есть, и не упасть раньше времени.
«Вставай!» — крикнул он себе. И внутренне сжавшись от ожидания боли, стал карабкаться вверх по стене, как кошка с перебитым хребтом, впиваясь обламывающимися ногтями в штукатурку.
Он сумел.
— Докладывает Сидоренко… — надсадно прохрипел он в трубку. — Юсуповский дворец… бандиты… Срочно — подмогу! Юсуповский… Подмогу, братцы! — И только после этого с несказанным облегчением сполз по стене на пол.
— Обнаружено пять тайников. О первом ты знаешь, — охотничьи ружья. Второй — нашел Свитич. Ювелирные изделия, картины, гобелены, ковры. Старинные скрипки. Одна из них, как сказали, стоит полмиллиона царскими… Третья захоронка — чуланчик. Вход обмурован изразцами. С виду — печка и печка. Сервизы. Один — на сто двадцать персон — необыкновенной какой–то драгоценности, эксперт–старичок даже плакал. Еще в одной замурованной комнате — картины. Вот список. В последнем тайнике — простое слиточное золото. При проведении обыска бригада подверглась бандитскому нападению и понесла потери…
— Знаю, Шмаков. Не докладывай, знаю. Жаль ребят.
— «Жа–аль»! У меня, товарищ, вот здесь болит, когда я о них вспоминаю.
— Похороны завтра?
— Как там Туляк?
— Возвращается. Боярский не объявился. Может, затаился. А может быть, — черт его знает! — ив самом деле покончил с собой.
— Хорошо, хоть у Туляка все нормально… Ох как дорого, дорого дались нам миллионы эти треклятые! Тренев, Стрельцов, Свитич, Сидоренко…
— Что поделаешь, Шмаков? Революция без жертв не бывает.
— Да понимаю я! Все понимаю! Но вот только ребят моих уже не вернуть…
— Да, Шмаков, не вернуть.
В день похорон грянул страшный мороз. Мутная мгла опустилась на город. Из–за этой мглы даже в двадцати шагах было плохо видно.
Дышалось тяжко, в полвздоха. Мороз обжигал легкие. У трубачей лопались губы, и кровь прикипала к раскаленным от стужи медным мундштукам.