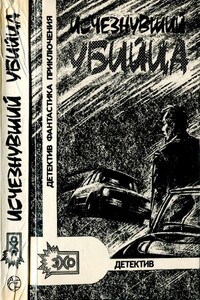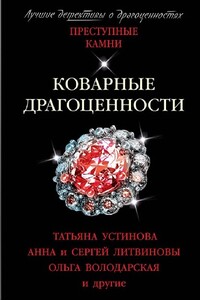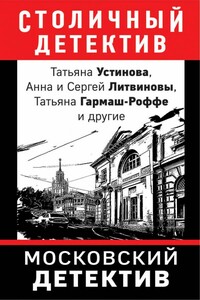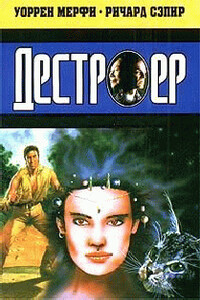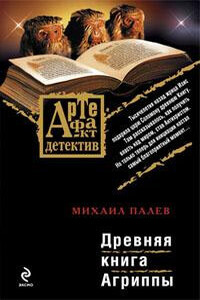Подождав немного, они осторожно вошли в хату, посветили фонариком. Одно из окон было разбито, на полу валялись глиняные черепки, какие–то тряпки. Белый бок печи темнел бесформенными кровавыми пятнами.
— Неужели… — глухо сказал Арлетинов.
Он вышел во двор, оглядел разваленную поленницу и вдруг понял, что поленницу развалили нарочно, зная, что иначе разведчикам не выбраться. Пораженный этой мыслью об удивительном хладнокровии женщин в их, может быть, самый трагический час, он молча стоял посреди двора, страдая, что ничего не может сделать для их спасения.
— А ведь их били, — сказал он вышедшему на крыльцо Никольскому. — А они нас не выдали.
— Надо уходить, — сказал Никольский, и Арлетинов оглянулся, не узнав голоса своего друга. — Если нас тут увидят, Сташицам не выбраться…
Он замолчал, услышав за сараем скрип шагов.
— Панове?
— Янек! — Они тормошили зябко вздрагивающего парня, радуясь, что он тут, и надеясь, что, может, и Сташицы где–то рядом.
— Увезли их. В Мышинец, — стуча зубами, сказал Янек. — И Вячека увезли, и Бронислава Коваля, и многих других…
— Пошли!
Арлетинов знал: особняк мышинецкого гестапо недоступен для горстки разведчиков, но сидеть в бездействии он не мог.
Там, где одна дорога вливалась в другую, разведчики остановились, не узнавая места. Знакомый проселок был перетерт траками танков. Наклонились, пощупали выбоины, схваченные ночным морозом.
— Туда шли, к фронту.
И группа и Янек тоже пошли, почти побежали по дороге, торопясь до утра догнать танковую колонну. Но как они ни вслушивались в ночь, останавливаясь у поворотов дороги, они не могли уловить ничего, хотя бы отдаленно напоминавшее рокот моторов. Это заставляло сбавлять шаг: раз танков не слышно, значит, они стоят, значит, в любой момент можно напороться на охранение.
— Панове, товариш–чи, — сказал Янек, с трудом выговаривая новое слово. — Ту есть еден учитель.
Они свернули с большой выбитой дороги, добрались до деревеньки, стоявшей неподалеку на холме. Учитель, к которому они постучались, был маленьким улыбчивым словоохотливым человеком. Впустив солдат и выставив на стол чугунок холодной картошки, с воодушевлением принялся говорить, что он и его друзья слышали о красноармейцах, живущих в лесах, и что на всякий случай давно уже собирают сведения о немцах. Вчера вечером они посчитали точно все танки — семьдесят две штуки, из них восемь тяжелых. И еще пятьдесят автомашин с пехотой и двенадцать мотоциклов. Шли по разным дорогам общим направлением на Остроленку. Остановились в лесу, неподалеку.
— Можно подойти к ним?
— Спробоваць можна…
Никольский и Арлетинов ушли вдвоем, строго наказав Янеку, чтобы тот пока выспался. Вернулись перед рассветом в маскхалатах, изодранных в лоскутья от долгого ползанья по–пластунски, усталые и радостные.
— Стоят. Танковая дивизия «Великая Германия». — Арлетинов небрежно бросил на стол завернутые в целлулоид документы. — Вот, с одним унтером побеседовали. Теперь, Янек, все от тебя зависит. Знаешь в лесу песчаные карьеры? За день должен добраться туда, сообщить о танках…
Весь день Никольский и Арлетинов отсиживались в сарае, зарывшись в сено. Под вечер услышали нарастающий тяжелый гул. В первый момент подумали, что это танки входят в деревню, потом поняли: идут наши самолеты. Казалось, вся земля задрожала от грохота. Над перелесками, видневшимися вдалеке за редкими дощатыми заборами, над теми местами, где стояли танки, метались ослепительные молнии и клубились, поднимаясь все выше, черные, сизые, бурые дымы…
Если бы у Фарида попросили описать полдень, он, наверное, вспомнил бы последнее довоенное воскресенье, когда просто так смотрел в синее небо над Петровским бульваром в Москве. Было жарко, и он сидел на скамейке, ждал друга, чтобы вместе поехать в Химки купаться, глядел на прохожих и ел мороженое, зажатое между двумя вафельными кружочками. На одной вафёльке было написано «Таня», на другой — «Маня».
А потом дни исчезли. В памяти осталась только вереница ночей, синезвездных и молочно–туманных, сухих и дождливых, душных предгрозовых и пронизывающе морозных. Он привыкал к ночному образу жизни и, когда выдавались свободные дни, чувствовал себя при ярком свете дремотно и неловко.