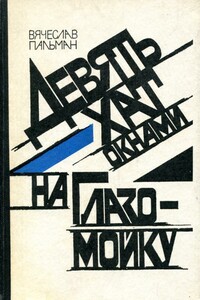Всё здесь Фёдору Ивановичу было знакомым и вместе с тем чужим, враждебным.
Он думал, что увидит в лагере виселицы, чёрные бугры могил, услышит выстрелы, истошные крики истязаемых людей. Ничего этого здесь не было. Наоборот — его ошеломили гнетущая тишина и безлюдье. Было непонятно, для какой цели все опутано здесь колючей проволокой и зачем торчат неуклюжие сторожевые вышки, похожие на гнездовья чудовищных птиц.
От конторы во все стороны вели аккуратные, ровные, расчищенные от снега дорожки. Перед клубом, сквозь проволоку, чернела большая площадка.
То там, то здесь можно было увидеть аккуратные дощечки с надписями на русском и немецком языках: «Запрещается», «Стреляю без предупреждения».
Офицер ввёл Фёдора Ивановича в бывшую контору и показал ему небольшую чистую комнатку, где, по мнению охранников, все было готово для врачебного приёма: стол, покрытый газетой, у стены широкая скамейка. В довершение ко всему у стола красовалось мягкое кресло с точеными ножками, с красными бархатными подлокотниками, с такой же красной, в виде сердца, спинкой.
— Здесь вы будете принимать, — тоном, не допускающим возражений, сказал офицер.
Высокий, долговязый, с большущей кобурой на животе унтер-офицер втолкнул первого больного — хмурого, заросшего щетиной мужчину в засаленной красноармейской гимнастерке, в стоптанных, без обмоток солдатских ботинках.
— На что жалуетесь, голубчик? — тихо спросил Фёдор Иванович, стараясь заглянуть в глаза первому пациенту. Ему казалось, что тот, увидев такого же русского, который пришёл с единственной целью — помочь, обрадуется этой встрече.
Но мужчина был строг и молчалив.
— На что жалуетесь? — чуть громче повторил Фёдор Иванович.
Пациент пожал плечами и недружелюбно ответил:
— Ни на что. Здоров.
К нему кинулся унтер-офицер и резко дёрнул за руку.
Фёдор Иванович заметил, как лицо пленного передёрнулось от боли.
— Ага! — обрадованно завопил охранник и сам засучил рукав гимнастерки пленного. — Смотрите, доктор.
На предплечье был виден нагноившийся ожог.
— Как же, голубчик, а говорите здоровы, — с легким укором сказал Фёдор Иванович, и глаза его встретились с глазами пленного — суровыми, непокорными и злыми. Но почему, почему он так смотрит на него, доктора?
Он перевязал пленному рану и сказал:
— В следующий вторник жду вас.
И других больных приводили с ожогами, с нагноившимися ссадинами, и другие больные ни на что не жаловались, и глаза у них были такие же суровые, непокорные и злые, как у первого.
Последним на приём явился какой-то белобрысый субъект в новом измятом красноармейском обмундировании. Он подошёл к доктору и щёлкнул каблуками.
Фёдор Иванович подозрительно взглянул на этого странного пациента.
— На что жалуетесь? — спросил он.
Субъект стал торопливо раздеваться.
Все пленные, приходившие на приём, были худые кожа да кости, а этот полнотелый, откормленный.
— На что жалуетесь? — опять спросил Фёдор Иванович.
Субъект бессмысленно улыбался.
— Да вы что, не понимаете по-русски, — рассердился Фёдор Иванович и только теперь заметил знакомого фоторепортера, который, опять по-обезьяньи прыгая, щелкал фотоаппаратом.
Унтер-офицер подал какую-то команду, и субъект вышколенным шагом вышел из приёмной.
— Данке шён, — поблагодарил доктора фоторепортер.
Выйдя после приёма за лагерные ворота, Фёдор Иванович почувствовал себя разбитым и окончательно обессиленным. Как на грех, снова огнём запылала натруженная культя, будто с неё сдирали кожу раскалёнными щипцами. Вот так всегда: стоит ему разволноваться — загорается культя…
Превозмогая жгучую боль, он едва плёлся по наезженной дороге. Порой останавливался, черпал пригоршнями жёсткий, как битое стекло, снег и жадно глотал его, точно хотел погасить боль в ноге.
Крепчал мороз. Лицо жалил колючий ветер.
Белыми змеями переползала через дорогу позёмка.
Дома, увидев доктора, Майя ахнула:
— Фёдор Иванович, что с вами? На вас лица нет.
Он молча сел на диван.
Вечером пришёл Зернов.
— Ну как ваш поход в лагерь, Фёдор Иванович? — спросил он.
— Не поход, а пытка. Меня снова фотографировали с каким-то субъектом, который изображал откормленного пленного.