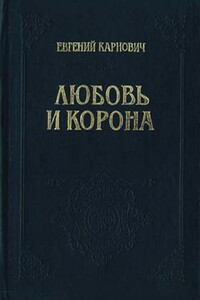— Какую же ты мне участь пророчишь, господин правитель? — смеясь, спросил Витез.
— Того камерария прихожане сместить пожелали за то, что не нажил достаточно большого брюха, которое отбило б у него охоту от добрых гулянок…
Когда же госпожа Эржебет, покраснев, одернула его, он, смеясь, принялся оправдываться:
— Так я ведь только о пользе славного нашего епископа варадского пекусь. Что на Италийской земле свершилось, и у нас стрястись может!
— Все же лучше я таким останусь, если обо мне речь идет, — улыбнулся и Витез.
Пока они беседовали в зал вошел юноша лет восемнадцати — двадцати и почтительно поздоровался с епископом. Тот, отодвинув от себя яства, в восхищении обнял его:
— Лацко! Как давно тебя не видал, даже узнать не могу! А как вытянулся! Может, тебя в Смедереве вверх подтягивали?
— Может, и стали бы подтягивать, ежели б посмели, — заносчиво воскликнул юноша ломающимся, по-отрочески густеющим голосом.
С пушком на губе, каштановыми, вьющимися по плечам волосами, он был вылитый отец, каким тот запомнился Вптезу с первой их встречи — добрых тридцать лет назад. Должно быть, и Янош припомнил себя молодым, он долго смотрел на сына, а потом твердо произнес:
— Когда Лацко прибыл к Бранковичу заложником, я сказал деспоту, что оставляю вместо себя сына, но ежели хоть волос упадет с его головы, не только бешеному турку, но и ему самому дорого обойдется Кенермезе!..
И, словно воспоминание разбудило дремавший в душе гнев, Хуняди, все более распаляя себя словами, вскоре уже просто кричал:
— Зря не скажу, Лацко там ничем не обидели, но, увидишь, наплачется еще деспот за Кенермезе! И прочим слезы лить придется! Да и ты, епископ Янош, не сделал того, что следовало! Когда дошла до вас весть, что, спасаясь от турок, я в плен к деспоту угодил, войско за мной послать следовало. Правитель я ваш или нет?
Ошеломленный Витез слушал обвинения, обращенные и к нему, но от неожиданности не мог даже ответить, лишь постанывал невнятно; но, даже придя немного в себя, только и выговорил:
— На это в другое время ответ получишь!
И чтобы разрядить возникшую напряженность, обратился к Эржебет:
— А где Матько в такое время гуляет?
— Верно, науками занят с господином Миколаем Лясоцким.
— Так он усерден?
— Больше прикидывается усердным, — с упрямым презрением и завистью перебил Ласло и скорчил такую гримасу, что все рассмеялись, только мать упрекнула сына:
— Не говори так о брате! Тебе в пример его усердие!
— Этот в отца! — Хуняди притянул к себе надувшегося сына. Больше он ничего не сказал, но явственно ответил жене на ее защиту младшего сына.
Когда Витез покончил, наконец, с трапезой, мужчины вернулись в оружейную. И едва захлопнулась за ними дверь, епископ, будто сошлись они сюда на смертный поединок, повернулся лицом к Хуняди и очень серьезным тоном спросил:
— Почему ты сказал, господин правитель, будто и я не сделал того, что следовало? Разве не я подбивал вельмож потребовать тебя у Бранковича? И разве не я помог тебе вызволить оставленного заложником сына?
Хуняди тоже повернулся к Витезу и с не меньшей серьезностью ответил:
— Не скажу, что ты не делал этого. Но чем измеряется сила действия, как не плодами его? А ежели так, то вижу я только одно: не вельможи вытребовали меня у Бранковича, а сам я себя вытребовал. Отдав в залог сына. И его мне вернули посулы мои да угрозы, а не чужая помощь…
— Мог ли я сделать больше того, что сделал?
— Ты, может, и впрямь не сумел бы сделать больше, но иное ты сумел бы и сейчас еще сумеешь — знаниями своими, всей душой своей рядом со мной стать, а не к тому прилагать старания, чтобы силу мою сломить…
— Разве я не это делаю? Разве не всегда это делал? В чем ты винишь меня?
— Не хочу сказать, что ты мой должник, потому что помог я тебе с епископством, — ведь и ты помогал мне ранее, чем только мог. Властью своей, советом и души возвышением. Но ныне ты этого не делаешь с прежней силою…
— Правду говори, всю как есть, а не пустые слова!
— Правда в том, что и ныне явился ты ко мне поколебать меня. Что не впервые уже делаешь…
— Раньше, когда я остерегал тебя от заблуждений и пытался указать иной путь, ты называл это помощью. А ныне, когда намерения у меня те же, считаешь, будто поколебать тебя хочу. Почему же ты теперь дурным считаешь мое благожелательство?