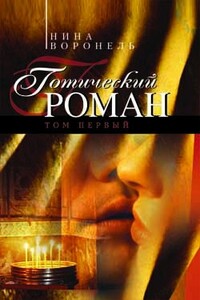— Ну, не знаю, я не судья… Все это было задолго до меня…
Что правда, то правда — все это было задолго до него. В те годы, вернее, в тот один год, когда протекал бурный роман Лу с Фридрихом, Райнеру едва минуло три года. Я тоже не стал настаивать. Лу демонстративно поднялась из-за стола и пошла целоваться с юбиляром, а я остался с Райнером, который начал опять уползать в свой панцирь.
— А вы как поживаете, Райнер? Что-то вы похудели, а ведь вы теперь не бедный и всеми забытый, а богатый и знаменитый.
Райнер вздохнул:
— Я живу сейчас в санатории в Швейцарии и приехал в Берлин только для того, чтобы встретиться с Лу. А так дышу горным воздухом и лечусь. Врачи нашли у меня какую-то мало изученную болезнь. И изучают ее на мне.
Он весь был какой-то неустроенный и неприкаянный, и мне стало его очень жалко, как в те далекие славные дни, когда он просил меня заступиться за него перед Роденом.
И стало особенно жалко, что навсегда ушло то сладкое беспечное время.
1924 год
Я встретился с Эйнштейном на каком-то банкете, когда каждый из нас бессмысленно слонялся вдоль стен с бокалом в руке, не уверенный, зачем он здесь. Эйнштейн обрадовался, увидев меня:
— А-а, граф Кесслер! Хоть одно знакомое лицо! Давайте уединимся где-нибудь в уголке и поболтаем.
Мы нашли свободный диванчик, и я спросил, над чем он сейчас работает.
— Я думаю.
— О чем вы думаете? — не понял я.
— Просто думаю. Понимаете, все замыслы и проекты человека несовершенны. Если долго думать, начинаешь видеть несовершенство какого-нибудь замечательного проекта. И придумываешь, как его усовершенствовать. Но если продолжать думать, то можешь заметить несовершенство нового проекта. И тогда начинаешь думать, как его усовершенствовать. И так происходит движение вперед.
1925 год, Веймар
Вчера я был в Веймаре и посетил Элизабет. Она, как всегда, была мне рада, а я, как всегда, восхитился мужеством и стойкостью этой хрупкой восьмидесятилетней женщины. Без рыданий и слез она поведала мне, что инфляция съела весь фонд пожертвований Архива Ницше — целые восемьсот тысяч золотых марок!
— Пропало все, до единого пфеннига, — констатировала она с удивительным спокойствием. — Так что мы существуем только от продажи билетов. И удивительно, но все еще живы. Правда, мюнхенские доброжелатели пожертвовали тысячу двести марок как основу для нового фонда.
Хотя меня обеспокоила мысль о том, кто такие мюнхенские доброжелатели, я не мог не отдать должное способности сестры Ницще бороться с невзгодами.
Через неделю, Берлин
Утром я отправился голосовать за нового президента. Моросил отвратный мелкий дождик, и улицы были пусты. Только на Потсдамер Плац топталась кучка белокурых юнцов со свастиками на рукавах — плечи у них были могучие, а лица, как на подбор, тупые. Лица же немногих прохожих под зонтами были полны такого безразличия, словно сегодня не решалась судьба Германии.
Вечером я пошел в штаб демократической партии, чтобы узнать результат выборов. Сомнения не оставалось — выиграл Гинденбург, а значит, к власти пришли националисты. Я боюсь, что этот день открыл одну из самых темных страниц в истории нашей страны.
1928 год, темные страницы
Речь одного из начальников берлинской полиции:
«Когда-то наш народ был здоровый и сильный, но теперь назвать его таким нельзя. Когда-то мы стремились к чему-то возвышенному, а сегодня падаем все ниже и ниже. Берлин стал мировой столицей разврата, стал новым Содомом и Гоморрой, и я стыжусь, что этот город — столица Германии. Раньше другие государства боялись нас, а теперь они над нами смеются. Но наше еврейско-большевистское правительство не в состоянии этому противостоять. Члены этого правительства страшные лжецы.
У нас есть только один человек, способный сказать правду и смыть грязь с берлинских улиц, очистить их от наркоторговцев и шлюх, от трансвеститов и извращенцев, от жидов и коммунистов. Этот человек — Адольф Гитлер, вождь нацистской партии. Я вовсе не нацист, я просто консервативный националист, и я опасаюсь, что у нас может случиться революция, подобная той, которая разрушила Россию. Ведь законы в нашей стране не соблюдаются, потому что среди служителей закона слишком много евреев.