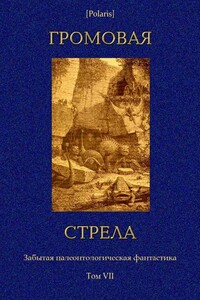В двенадцать часов прозрачным сереньким деньком мы верхом отправились к Моррисону. Несколько миль дорога шла лесом, и мы думали, что едем в глубь острова, пока не увидели, как блеснул залив, — это было то место, где мы простояли ночь на якоре. Мы выехали на берег и продолжали путь по широкой отмели. Лошади с трудом подвигались вперед, увязая в глубоком песке, осторожно ступая по острой гальке, а мы с интересом слушали фантастические рассказы Моррисона или, когда он умолкал, увлеченно наблюдали за дикой птицей. Она в изобилии водилась на берегу.
Стаи жирных диких гусей при нашем приближении наперегонки помчались к морю, бешено работая крыльями, словно заведенный мотор. Летавшие попарно маленькие золотисто-коричневые ястребы безбоязненно садились на ветки так близко, что до них можно было дотронуться, и внимательно следили за нами.
По всему берегу были сложены штабелями огромные распиленные бревна, которые потом свозили на фабрику. Мы повстречали людей с волами. Они тянули бревна на берег, там их сцепляли в плоты и сплавляли во время прилива. Было слышно за милю, как с ревом и проклятиями работает эта воловья бригада. Казалось, что, вооруженные длинными баграми, люди борются с громадными упрямыми животными, бьют и колют их, чтобы согнать в стадо. Бурная энергия и сила живых существ гармонировали с застывшим величием пейзажа.
Несколько часов мы ехали берегом, затем, вскарабкавшись по крутому склону барранкоса[12] на возвышенность, опять ехали через леса и болотистые равнины.
— Здесь мы как раз на полпути к моему дому, — не улыбаясь сказал Моррисон, когда мы поднимались на холм.
И пока он заботливо спрашивал, в силах ли мы продолжать путь, мы достигли вершины и увидели внизу среди аккуратно возделанных полей окрашенное в яркую краску здание его фермы.
Мы наперегонки помчались вниз с холма по лугам и, окруженные сворой прыгающих и лающих шотландских овчарок, доехали до дома. Навстречу вышла такая милая и приветливая хозяйка, что нам показалось, будто мы возвратились в родной дом. Сама ферма — оазис цивилизации в граничащей с морем прерии. Дом, окруженный цветущими садами с аккуратно подстриженными изгородями и дорожками, посыпанными гравием, был олицетворением тихого счастья. Атмосфера надежности и приязни, продуманный комфорт, самодельные предметы роскоши внутри дома подтверждали это впечатление, свидетельствуя о том, какое умиротворение можно обрести в безграничном одиночестве.
Постоянные шутки Моррисона были не последним источником развлечения для супругов. Эти шутки не вредили ему в глазах жены, так как доброта была главной чертой его характера.
За обедом Моррисон вытащил склянку с гвоздичным маслом.
— Это что такое, Кеннет? — спросила жена.
— Это, — ответил он, — какой-то омолаживающий состав.
И мы стали дружно обсуждать чудодейственные свойства «высококонцентрированной гормонной вытяжки из неочищенного керосина» — настоящего эликсира жизни, как мы утверждали.
— Одна доза содержимого этого пузырька, госпожа Моррисон, — говорил я, — способна сделать мужчину, скажем лет сорока пяти, шестнадцатилетним юнцом.
С минуту госпожа Моррисон недоверчиво смотрела на наши бесстрастные лица. И вдруг, поверив, схватила мужа за руку, в которой он держал склянку, и воскликнула в испуге:
— Кеннет! Не принимай слишком много!
В тот вечер, сидя у камина рядом с добрыми людьми, беседуя об их делах, их спокойной повседневной жизни, целиком заполненной размеренным трудом, я думал, что в этом отдаленном, затерянном краю действительно жило счастье.
И однако, какого утешения ищет она, читая книги о «Новой мысли», и что скрывается за шутками Моррисона? Печаль раздумий порождается даже среди высшего блаженства, даруемого душевным покоем.
Один из самых чудесных дней уже вечерел, когда с сожалением покинули мы этот дом и пустились в обратный путь. Мы очень подружились, и Моррисон опять отправился с нами. Залив был спокоен, как горное озеро, а на юге за его бирюзовой гладью сияли багрянцем на фоне желто-лимонного неба снежные цепи гор. Еще горели пламенем высокие пики, а уже поднялась над ними полная золотистая луна, и темнота так и не наступила, вечер казался смягченным отблеском дня. Никогда не было ночи прекраснее.