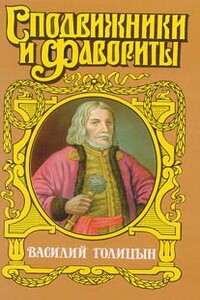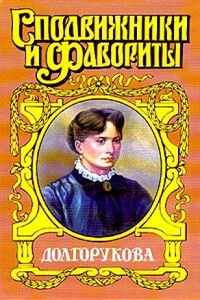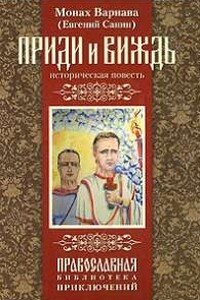Пётр любил шахматы, возил их с собою, когда фигуры терялись, точил из кости замену в царской токарне. Блюментрост был достойный партнёр, и случалось, выигрывал. Но Пётр всё-таки был сильней. И радовался, как ребёнок, когда выигрывал, равно радовался всякому удачному ходу — не только своему, но и партнёра. Сердился, когда видел нарочито слабую игру, требовал:
— Ежели из угождения станешь поддаваться, более с тобою не сяду.
Это было известно. И Блюментрост напряжённо обдумывал каждый ход.
— Жалобиться не дело государя, — неожиданно заговорил Пётр, и лейб-медик поднял голову от доски. — Но ты лекарь, тебе не токмо можно, но и должно. Непомерно уставаю, ноги ноют нестерпимо. И злоблюсь безмерно.
— Была бы моя воля, ваше императорское величество, отрешил бы вас от трона, о чём и прежде сказал.
— Ну, ты опять за своё, — буркнул Пётр. — Лучше дай мне такое зелье, кое облегчение принесло бы.
— Нету лучшего зелья, нежели покой и веселье. Но, — и Блюментрост предостерегающе поднял палец, — при умеренности, при воздержании от излишеств, при незлобивости и душевном равновесии.
— Больно многого ты требуешь, Лаврентий. Можно ль мне переменить натуру? Каков я был, таков есть и таким помру. Тихая жизнь не для меня, утоптать мою натуру может только Господь, да и он, сколь молю его, не снисходит. Стало быть, кто? Смерть, вот кто. Шах тебе, Лаврентий.
Блюментрост поджал губы и склонился над доской. Его король оказался в осаде. Из неё, похоже, не было выхода.
— Чуешь, Лаврентий? Королева-то моя при поддержке кавалерии норовит взять в полон твоего короля.
— Да, государь, — признал лейб-медик. — Что король против императора. Да при такой императрице!
— Всамделе может вести в атаку кавалерию, — с некоторой гордостью заметил Пётр. — Что в походе помалу случалось. — И доверительно, чуть понизив голос, прибавил: — Истощилось лоно у госудырыни у моей. Ваше искусство тут силы не имеет?
— Не имеет, государь, — развёл руками Блюментрост. — Родильному органу женщины предел положен. Венценосная супруга ваша, не мне вам напоминать, сей предел перешла. Един Господь творит чудеса.
— Усердно молила о сыне. Пресвятую Богородицу и всех святых. Троих сыновей мне принесла. Да не дал Бог им жизни. Кто его прогневил — она либо я? Не ведаю. А размышлять опасаюсь. Аз многогрешен.
Лейб-медика удивила такая исповедальность. Против обыновения Пётр был грустен и сидел в своём кресле, весь обмякнув.
Оба молчали. «Каково же могущество духа государя, коли оно способно торжествовать над недужной плотью, — думал Блюментрост. — А плоть прежде редкостной мощи истощена не только непосильными трудами, но и болезнью. Она точит Петра неумолимо и не оставит его, несмотря на все наши усилия. Врачебная наука продолжает блуждать в потёмках...»
Он не осмелился произнести это вслух. Сказал:
— Позвольте, ваше величество, оставить вас. Мы приготовим в аптеке нужные лекарства, и я немедля доставлю их.
— Иди, Лаврентий, иди. А я, пожалуй, предамся Морфею.
— Сон тоже лекарство, — не удержался от банального напоминания лейб-медик.
Мимоездом завернул в усадьбу князя Дмитрия Михайловича Голицына — хворала его супруга. И князь, бывший в дружбе с Блюментростом, просил его заглянуть.
— Ну что государь? — спросил князь с порога.
— Выиграл шахову партию, — отвечал лейб-медик.
— Немудрено: сильный игрок, — усмехнулся князь. — А шах заморский силы не имеет вовсе. Самое время разжиться его землями. А ты проиграл?
— Проиграл.
— Каков нынче государь?
— Опасаюсь за него. Хоть и недюжинная натура, редкостно мощная, но и железо от непосильной нагрузки изнашивается да ломается. Попользую княгиню да без замедления отправлюсь в аптеку — лекарства государю готовить.
— Нету для государя лекарств, — задумчиво молвил князь. — Твои слабёхоньки.
Князь Дмитрий Михайлович Голицын был весьма себе на уме. Иронист и насмешник, он вызывал у коллег сенаторов чувство, близкое к неприязни. Его превосходство было неоспоримо: книгочий, знаток языков, обладатель редкостной библиотеки, он давал его чувствовать. Даже Меншиков побаивался его языка и старался не вступать с ним в конфликт.