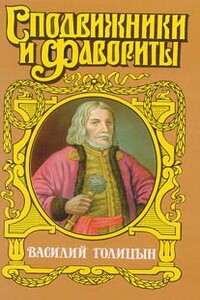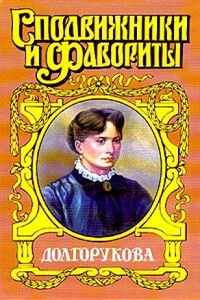Князь Дмитрий не расставался с походным альбомом. Страница за страницей покрывались рисунками. Он старательно перерисовывал иероглифы, многие из которых были ему неведомы, копировал надписи. Его непременный спутник Пётр Андреевич Толстой, несмотря на свои почтенные лета стоически переносивший все походные тягости, поначалу подтрунивал над ним, а потом и сам постепенно увлёкся, объясняя это так:
— Ровно клад ищем, что весьма занятно, а может, и с великим прибытком окажемся.
— У всякого свой прибыток, — пробормотал князь Дмитрий, уловив реплику своего спутника. — У иных золото и драгоценные каменья, а у меня — древняя монета либо надпись на камне, рисунок неведомого живописца на полуразрушившейся стене склепа... И ещё молю небесных покровителей моих дать мне силы возвратиться из сего похода и узреть счастие моей дочери. Более мне ничего не нужно. Я своё совершил и потомкам оставил память по себе в сочинениях моих.
— Мрачно, князь, зело мрачно, — укорил его Пётр Андреевич. — Я, чать, старее тебя, а итогов подводить не собираюсь. Охота ещё пожить, зрить новые государевы триумфы. А с твоими-то трудами ты уж давно в вечность вошёл. Эвон, тебя в Берлине в почётные академики записали, книгу твою про возвышение и упадок империи Турецкой на иностранные языки перекладывают. Сказывают, Синод спешно, повинуясь указу государеву, тискает в своей печатне книгу твою, называемую «Система, или состояние мухаммеданския религии», дабы доставлена она была в наш лагерь и представлена государю.
— Питаю надежду увидеть её ещё в походе, — кивнул князь, но голос его был печален. — Беседы мои с государем о сём предмете были не единожды, но всё ж книга толкует его весьма основательно. Мой секретарь Иван Ильинский переложил её на живой русский язык с подобающей лёгкостию, коей я ещё не вполне владею.
— Таковая книга весьма потребна — и государю, и приближённым его, — согласился Толстой. — Да и мне, грешному, многие тонкости мусульманские неведомы, хоть и провёл я в ихнем царстве-государстве близ двенадцати годов.
— Да, столкнулись два мира, и будут они противостоять не годы — века, — убеждённо проговорил князь Дмитрий. — Ислам — воитель, он не довольствуется словом, учением, убеждением в истинности своей веры. Он насаждает её мечом, он подчиняет ей страны и народы, он марширует всё далее на Восток и уже достиг его пределов. Он непримирим и фанатичен. Выросши среди турок, я был заражён болезнию ислама. Для простолюдина она неизлечима. Человек же мыслящий мало-помалу освобождается от её ков. Я исцелился, ибо смотрел на мир глазами философа. Всякий фанатизм, христианский ли, мусульманский, — равно отвратителен.
— Отвратителен, верно, — качнул головой Толстой, — ибо разрушителен. Но сильно опасаюсь, дорогой князь, что человеки прозреют только лишь тогда, когда окажутся на краю гибели.
— Увы, это так. Голос мудреца глохнет в репе толпы, — грустно произнёс князь Дмитрий. — Так было, так будет.
На четвёртый день переправа была окончена. Люди чистились, одежда их обсыхала. Солдаты обмывали себя в бурных и донельзя мутных струях Сулака. Пётр запретил пить речную воду, опасаясь кишечной хвори, о которой ему без устали твердил доктор Блюментрост, лейб-артц его величества.
— Сию заразу трудно будет искоренить, ибо она захватывает близко соприкасающихся людей, передаётся с питьём и пищей.
Разбили лагерь на другом берегу, принимали горских владельцев с подношениями. Одни пригнали гурт овец, другие волов с телегами. Аксайский владелец презентовал шестёрку коней в богатой сбруе.
Пётр хмыкал.
— Все сии дары не от сердца, а от опаски, дабы мы их селений не тронули. Видят силу нашу, вот и покорствуют. — И с огорчением добавил: — Сколь многим я бы пожертвовал ради того, чтобы утверждаться на сих берегах не силою, но справедливостью и верою в правоту нашу.
— Оно придёт, такое время, государь, — молвил Толстой в утешение.
— Когда? Чрез три века? Чужие мы тут и пребудем в чужаках до скончания веков, — махнул рукою Пётр с непривычной для него безнадёжностью.
Вид у него был усталый, круглое лицо осунулось, глаза утеряли свою обычную пронзительность и словно бы потухли.