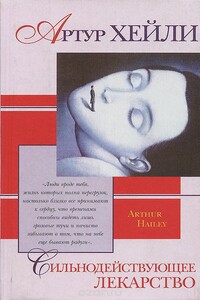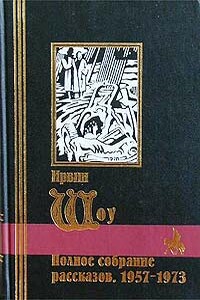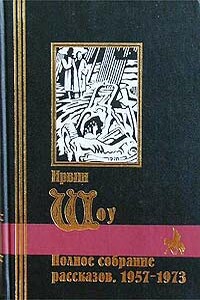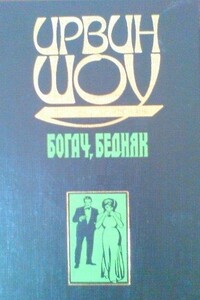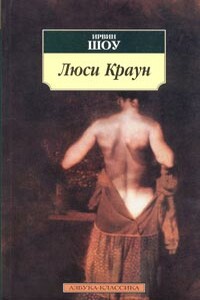— Сержант, — сказал Новак, — сержант Стаис, вы не будете возражать, если я напишу своей девушке, что вы — грек.
— Нет, возражать я не буду, — мрачно ответил Стаис. — Но родился я, для вашего сведения, в Миннесоте.
— Я это знаю, — сказал Новак, — усердно трудясь над письмом. — Но ведь ваши родители приехали из Греции. Моей девушке будет интересно узнать, что ваши родители греки, а вы бомбили Грецию, и ваш самолет там сбили.
— Как прикажешь понимать «моя девушка»? — спросил Уайтджек. — Разве ты не говорил, что она теперь гуляет во Флэшинге, что на Лонг-Айленде с сержантом из Технической службы?
— Да, это так, — виновато согласился Новак. — Но мне нравится думать, что она — все ещё моя девушка.
— Везет же ребятам, которые остались дома, — мрачно произнес Уайтджек, — они получают нашивки и подбирают всех девиц. Лично я придерживаюсь железного правила — не писать женщине, если расстояние между нами превышает ширину наволочки.
— А мне нравится писать девушке во Флэшинг на Лонг-Айленде, негромко, но упрямо заявил Новак и, обращаясь к Стаису, спросил: — Сколько дней вы провели в горах до того, как вас нашли греческие крестьяне?
— Четырнадцать, — ответил Стаис.
— И сколько человек из экипажа были ранены? Трое. Трое из семи. Остальные были убиты.
— Слушай, Чарли, — вмешался Уайтджек, — может быть, ему вовсе неохота об этом вспоминать.
— О, прошу прощения, — Новак поднял глаза, а на его юной физиономии появилось выражение озабоченности.
— Пусть спрашивает, — сказал Стаис, — я не против.
— А вы сказали им, что вы тоже грек? — спросил Новак.
— Сказал. Как только появился крестьянин, понимавший английский.
— Всё это страшно забавно, — задумчиво произнес Новак. — Грек, бомбивший Грецию, не говорит на греческом языке… Я могу написать девушке, что у них было радио, и что они радировали в Каир…?
— Но это девушка сержанта-техника, она гуляет с ним во Флэшинге, почему-то пропел Уайтджек, и спросил: — Почему ты отказываешься смотреть в лицо фактам?
— Мне так больше нравится, — с достоинством ответил Новак.
— Думаю, что ты можешь написать ей о радио, — сказал Стаис. — Всё это было довольно давно. Спустя три дня через разрывы в облаках к нам спустился «ДиСи-3». Дождь лил непрерывно и прекратился перед вечером минут на тридцать. В этот момент и приземлился самолет. Он вздымал фонтаны высотой футов в пятнадцать…Мы радостно приветствовали его сидя, потому что у нас не осталось сил на то, чтобы стоять.
— Я должен написать об этом своей девушке, — обрадовался Новак, «…не осталось сил на то, чтобы стоять».
— Затем снова полил дождь, грязь на поле была по колено, и когда мы забрались в «ДиСи-3», он просто не смог взлететь. — Стаис говорил медленно и задумчиво, так словно беседовал с самим собой. — Мы просто увязли в той греческой грязи. Затем пилот — его звание было капитан — вылез из машины и огляделся по сторонам. Дождь не прекращался, крестьяне, окружившие самолет, сочувственно смотрели на пилота, я тот был не в силах что-либо предпринять. Впрочем, кое-что он все же мог сделать… Капитан начал клясть все на свете и ругаться, и делал он это десять минут без остановки. Он был родом из Сан-Франциско, и по части сквернословия ему не было равных. Затем все принялись ломать ветви в окружающем пастбище лесу. В заготовке зелени приняли участие даже те, у кого за час до этого не было сил стоять на ногах. Одним словом, мы замаскировали «ДиСи-3» ветками и стали ждать, когда кончится дождь. Мы сидели в лесу и молили Бога, чтобы он внушил немецким патрулям мысль не высовываться из палаток в столь неприятную погоду. За эти дни я и выучил несколько слов по-гречески.
— Какие именно? — поинтересовался Новак.
— Vuono, — сказал Стаис, — что значит гора. Vrohi — дождь. Theos Бог. Avrion — завтра. И Yassov, что означает прощайте.
— Yassov, — повторил Новак.
— Затем появилось солнце, от земли повалил пар и никто больше не произнес ни слова. Мы молча сидели и смотрели на то, как с травы исчезает вода, как сплошной слой воды превращается в отдельные лужицы и как постепенно начинает подсыхать земля. Когда капитан решил, что можно рискнуть, мы влезли в «ДиСи-3», греки нас слегка подтолкнули, шасси освободились от грязи, и мы взлетели. Крестьяне стояли внизу и махали нам руками так, словно это были не горы Пелопонесса, в вокзал Гранд Сентрал. Пролетев миль десять, мы оказались точно над немецким лагерем. В нас оттуда пару раз выстрелили, но не попали. Самый лучший момент в своей жизни я пережил, оказавшись в Каире в госпитале. Я целую минуту не входил в палату — лишь стоял на пороге и пялился на белоснежные простыни. Затем медленно, очень медленно направился к кровати.