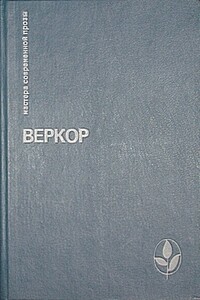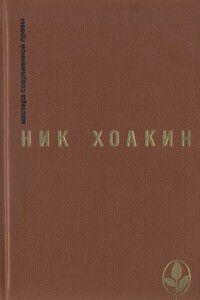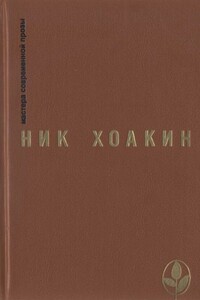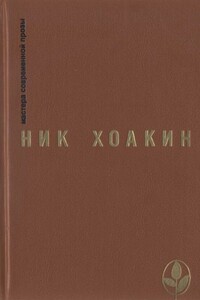Тут у нас действуют миссионеры, обращают в христианство филиппинские племена, оставшиеся языческими, — почему же националисты не вопят во весь голос, что это, дескать, развращение последних подлинных филиппинцев? Где патриотический протест против посягательства на душу филиппинцев, которых и деколонизировать-то не надо? Я чувствовал, что националисты непоследовательны. Ругать монахов былых времен за то, что они обратили нас в христианство, — разве это не пустое занятие? Куда логичнее было бы положить конец той деятельности по обращению в христианство, которая сегодня идет вовсю на наших глазах, среди нас самих, среди наших язычников.
А тут как раз эти неоязыческие культы в Пангасинане, в Горной провинции, пытавшиеся возродить древние верования. Ну и что же националисты? Рискнули они хоть раз выступить в защиту неоязычников? Нет, они смотрели на них свысока, как на знахарей и деревенских чудотворцев. С одной стороны, филиппинское язычество превозносили как проявление подлинно народного духа. С другой — его же третировали, объявляя пустым предрассудком.
Как я уже сказал, я чувствовал, что если бы остался там, по ту сторону, то сыграл бы свою роль с куда большим успехом, чем все они. И вдруг оказался здесь, в этом лагере.
Как это случилось? Два года назад, ты знаешь, я уговорил дона Андонга посетить курсильо. Поначалу я не питал никаких иллюзий, и в мыслях не имел, что это произведет на него хоть какое-нибудь впечатление. А когда потом узнал, что он общается с духовными наставниками, то был ошеломлен. Но мое удивление вовсе не было радостным. Я почувствовал, что меня провели, и приуныл. Ведь сам Мистер Националист, лютый враг церкви, готов покориться ей. Мне казалось несправедливым, если вдруг та сторона потеряет такого борца. Я наслаждался нашим поединком, и мне вовсе не улыбалась мысль получить его в союзники.
Да, я знаю, о чем ты думаешь, Джек. Ты думаешь, я все еще хотел насолить отцу, ибо никак не желал быть на его стороне. Да, мое место всегда в противоположном лагере. И если дон Андонг, заместивший моего покойного отца, перешел в лагерь церкви, то мне надо покинуть его, чтобы по-прежнему быть против отца. Пожалуй, этим можно объяснить одну совершенную мною подлость. Я свой человек в церковных кругах, и мне было известно, когда именно дон Андонг должен был в присутствии кардинала объявить о принятии веры. Я постарался, чтобы об этой тайне узнали активисты. В результате — демонстрация против дона Андонга в день его обращения, вину за которую свалили на Алекса.
Тогда я еще не имел четких планов и, уж конечно, не думал, оставаясь в церкви, тайно помогать ее врагам. Но из-за этого злого поступка, совершенного под влиянием минуты, я неожиданно превратился в мистера Хайда, двойного агента, работающего на тех и на других. И как это увлекло меня! Никогда раньше я не испытывал такого радостного возбуждения, такой полноты чувств, как в момент, когда стоял свидетелем обращения дона Андонга на вилле кардинала и одновременно слышал рев демонстрантов у ворот, сознавая, что то и другое — дело моих рук. Власть для меня дело привычное, но такая власть — о да! Я словно умножил свою жизнь на два. Я был христианином, благоговейно свидетельствующим приобщение к вере, и в то же время как бы антихристианином, который там же, стоя у ворот, проклинал эту веру.
В тот миг я увидел, какой путь открывался передо мной. Воспротивиться обращению дона Андонга собственным сенсационным отступничеством меня не устраивало. Довольно того, что я неожиданно и всецело стал язычником в сердце своем. Оставаясь в рядах церкви и подрывая ее изнутри, можно ведь сделать для язычников больше. А кроме того, необходимость таиться насыщала каждый миг таким ощущением полноты жизни, что мне казалось, будто и чувствовать я стал вдвое острее.
Ты спросишь, так ли внезапно я сделался язычником? Отвечу — нет, процесс шел исподволь и давно, хоть я сам не ведал об этом. Ибо все время, пока я просто отбивал нападки на церковь со стороны дона Андонга и националистов, я видел, что им чего-то еще не хватает, и мысленно формулировал для себя решающий, на мой взгляд, довод националистов: раз подлинный филиппинец есть филиппинец языческий, христианин вообще не может быть филиппинцем. А тут вдруг понял, что уверовал в это целиком. Вот почему мое тайное отступничество не привело меня в один лагерь с Алексом. Ему и его националистам казалось достаточным быть просто врагами христианства, между тем как следовало активно защищать язычество. Ибо спасение филиппинца — в восстановлении язычества на Филиппинах.