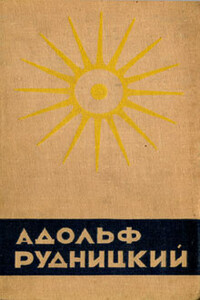Аня присела на траву, поджала ноги, глядела тоскливо, с любовью. Теперь надо ждать. Долго. Терпеливо. И где он теперь – неизвестно, в каких краях, с какими мыслями, над какой бьется думой. Первое время окликала его, тормошила, допытывалась: "Егорушка, ты чего?" Глядел исподлобья, отвечал глухо, с растерянным смешком: "И не скажу, Аннушка…" Боится она его – такого. Беспокоится. Тоскует в беспомощном одиночестве, что не может помочь, облегчить, утешить, пойти рядом, бок о бок. Нет ей доступа в заповедные те края. Нет доступа.
Но вот он слабо вздохнул, шелохнулся, жизнь вернулась в глаза.
– Аннушка, – сказал глухим баском, легко и часто вздыхая, – пруд-то опять глохнет...
Аня вскочила проворно на ноги, примостилась рядом на низкой скамейке, обхватила его за плечи.
– Здравствуй, Егорушка! Здравствуй, милый! С утра не видались.
Потерся щекой о щеку, моргнул натруженными глазами:
– Глохнет, Аннушка. Я чую.
– Ну и леший с ним! Делов-то.
– Глохнет… – повторил с тоской, а глаза блуждали по забору, беспокойно шарили вокруг, словно выискивали малую щепочку в толстых неструганных досках.
– Пошли, – попросил. – Взглянем...
– Да чего там глядеть? Лужа лужой.
– Пошли, – потянул за руку. – Сам хотел, да боязно.
Встали, потоптались у скамейки.
– Может, не надо?
– Надо! – крикнул негромко. – Надо.
Взялись за руки, прошли под яблонями, вышли в калитку, обогнули забор с наружной стороны. Собака шла за ними. Петух – за собакой. Впритык к забору морщился под легким ветерком крохотный захламленный прудик. Мокла газете на воде, плавали окурки, ржавая кровать торчала наискосок, ломаные ящики от помидоров, утыканные гвоздями, лениво тюкались друг о друга. Собака понюхала воду, брезгливо сморщила нос, пить не стала. Петух взглянул со стороны, близко не подошел.
– Убавилось... – взволновался Егор. – Меньше стало.
– Да от жары это, Егорушка. До первых дождей.
– Не. Ключ засорило. Я знаю.
Встал на колени, опустил руку в воду по самое плечо, прислушался, склонив ухо, пошарил на дне. Бледное лицо сморщилось, как перед плачем, лоб пошел частыми морщинами.
– Тина... – сказал обреченно. – Тины по локоть.
И сник. Закачался на коленях. Застонал тихо, из глубины.
– Егорушка! – Подхватила его под руки, подняла с земли: – Пошли, милый. Пошли домой. Не пропадать из-за этого.
А он уже рванулся от нее, обежал кругом пруд, ухватился за гнутую спинку, стал выдергивать из воды ржавую кровать. А ее засосало – не вытянешь. С его-то силами!.. Руки тонкие, белые, жилками голубенькими перевитые, косточки у локтей цыплячьи, волоски на коже редкие, невидные. Часы "Победа", обычные, некрупные, перекрыли всю его руку, и даже дырка на ремешке проделана гвоздем. На всех ремешках он проделывал новые дырки, потому что фабричная продукция не рассчитана на такие руки.
– Помоги... – закряхтел. – Аннушка!
– Да плюнь ты! – ругнулась. – Нам-то чего?
Поглядел снизу глазами отчаянно безумными, зрачок во весь глаз, сказал с трудом, мучительно кривя губы:
– Клююч... жи-вым глохнет... Жи-вым, Аннушка…
Аня охнула – и к нему. Схватилась руками за решетку, стала тянуть. Кругом дома стоят, жильцы с балконов смотрят, а они пыхтят, надрываются, выволакивают из грязной лужи ржавую кровать. Выдохлись, встали, запыхавшись, руки у обоих бурые от ржавчины.
– Еще... – задохнулся. – Еще давай...
– Егорушка, тут надолго. Пошли, милый.
– Ну и надолго, – упрямо. – И пусть.
А сам уже устал – ноги не держат. Привалился к забору, глядел тоскливо, загнанно, как поднимались со дна ленивые пузыри, лопались с тихим шипением.
6
Собака рванулась из-под ног, загавкала яростно и визгливо. Рядом, чуть не в метре, стоял грузный мужичок с большущим животом – гриб-боровик, глядел на них из-под мохнатых бровей. Так подошел неслышно – даже собака не учуяла. Будто из земли вырос.
– Цыган! Тихо, Цыган!..
– Ништо, – сказал мужичок ласково, голосом нутряным, из недр живота, – нехай лает. Я собак не боюсь. Сам еще могу укусить. Вон, зубов полон рот.
Разинул широко рот, блеснул металлическими коронками, да ка-ак зарычит, ка-ак гавкнет на весь двор: аж собака осела на задние лапы, с перепугу поджала хвост.