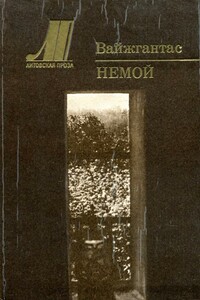Начался месяц октябрь. Испортилась погода, дни стали короткими, ночи — длинными, а от беспрерывных дождей вышли из берегов реки, и все дороги превратились в сплошное месиво из жидкой грязи. Деревья пожелтели и начали сбрасывать листья. Теперь уже можно было без труда разглядеть, что творится в осажденных замках на вершине горы Гедиминаса >37.
Уже целый месяц многочисленные отряды союзного войска били по крепостям Вильнюса и никак не могли разрушить их прочные каменные стены. Днем и ночью гремели пушки, трудились тараны; сотни рыцарей, прикрываясь металлическими крышами, приближались к стенам замков, пытались подкопаться под фундамент, били по ним и сверху и снизу, но все тщетно. Осажденные с не меньшим успехом разбивали из пушек тараны и катапульты штурмующих, лили им на головы расплавленную смолу, ошпаривали их крутым кипятком, а когда рыцари наконец поднимались к гребню стены, снимали им головы секирами на длинных древках.
Приуныли крестоносцы, не так уж рьяно рвались в бой и чужеземные рыцари, а как только зарядили затяжные дожди и подул холодный северный ветер, все расстроились, проявляли недовольство и только поглядывали в сторону дома. Еще больше портило всем настроение то, что теперь, после того как развезло дороги и вышли из берегов реки и речушки, уже нельзя было пускаться в окрестные селения и грабить местных жителей. Кроме того, стало не хватать провианта для людей и корма для лошадей. А каждый день уносил сотни новых жертв, так что в обоих костелах Вильнюса отцы монахи с утра до вечера служили панихиды за упокой души погибших и в сумерках хоронили их на Антакальнисе в общих могилах. Земля вокруг замков и в самом городе, ежедневно разрезаемая колесами тысяч повозок, размешиваемая тысячами человеческих ног и лошадиных копыт, превратилась в кашу. Рыцари вязли вместе со своими доспехами, повозки застревали, и по грязи никуда нельзя было пройти. Промокшие насквозь шатры не хранили тепла, а дома и избушки в городе все уже были разрушены и сожжены.
У осажденных положение было куда лучше: пищи они имели вдоволь, воды тоже; промокшие стены крепости становились еще неприступнее, да и опасность возникновения пожаров уменьшилась. К тому же старосты замков, напуганные участью Казимира Каригайлы, защищались из последних сил и даже не подумывали о сдаче.
С первого же дня осады вильнюсской крепости рыцаря Греже назначили командовать пушками и таранами крестоносцев, а дела у него шли не ахти как: две пушки взорвались, и он сам только чудом остался жив; две другие испортились, а починить их было негде. Отсырел порох. Бывало, пушкари из всех оставшихся четырех пушек ордена не могли сделать ни единого выстрела. Да и стрельба не очень-то удавалась: пушкари брали или слишком высоко, или слишком низко; ядро то не долетало до цели, то проносилось над ней, и только изредка попадало туда, куда хотелось. Единственное утешение для рыцаря Греже было в том, что и французским пушкарям не везло: и они часто ругались, ссорились и обвиняли или дождь, или язычников, которые, мол, своим взглядом отводят ядра в сторону. Достаточно хлопот причиняли также тараны: они и сами портились, и защитники замка разбивали их пушечными выстрелами, а чинить тоже было негде. И вообще, рыцарь сам не знал, что с ним творится, ибо ему вообще перестала сопутствовать удача. Когда рыцарь Греже выехал из Ужубаляйского замка, он, пока ни с кем не воевал и не проливал человеческую кровь, был самым счастливым человеком; все вокруг казалось ему прекрасным, приятным, милым, и все люди для него были братья. И проезжая верхом на коне через рощицу, и поднимаясь по Неману на лодке, и ночью у костра он не расставался со своей мечтой, со своей любовью к Лайме. Поднимаясь по Неману к Каунасу, он нарочно остановился в устье Дубисы и расспрашивал жемайтийцев, прибывших с верховьев этой реки, нет ли у них каких-нибудь вестей о замке боярина Книстаутаса и его дочери красавице Лайме. Любезны были ему и воды Дубисы, притекающие из тех краев. С нетерпением ждал он встречи с самим боярином или с его сыновьями, которые тоже должны были идти на Вильнюс. Правда, в Вильнюсе Греже встретился с ними, но в первый же день этой встречи боярин Книстаутас был убит. После смерти отца сыновья стали неразговорчивыми. Рыцарь Греже чувствовал себя страшно одиноким и несчастным. Несчастным он почувствовал себя уже раньше, как только вместе с комтуром Германом начал усмирять арёгальских бояр. Несчастье принесли ему те же самые литовцы, когда под Каунасом состоялась битва с войском Скиргайлы. В ней участвовал и рыцарь Греже; здесь впервые после встречи с Лаймой, пробудившей в нем любовь, обагрил он свой меч кровью литовца. Его жертвой стал молодой литовец, голубоглазый, светловолосый. Эти волосы живо напомнили рыцарю желтые косы Лаймуте, ее янтарные бусы… и дрожь пробежала по его телу. После этого рыцарь Греже уже не нападал, а только защищался. Когда кончилась битва, у него появилось такое чувство, какое бывает у полководца, проигравшего сражение. Ночью снился рыцарю Греже этот убитый литовец, и потом, поднявшись рано утром, он уже не так ласково поприветствовал солнышко. Весь путь до Вильнюса, да и в самом Вильнюсе казалось ему, будто он потерял свою любовь. Уже не радовали и не волновали его ни птицы, ни люди, ни прекрасная природа окрестностей Вильнюса. Часто вспоминал рыцарь песнь старого кривиса о высоком боярском замке, ночью захваченном врагами и обращенном в пепел…