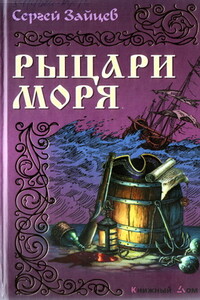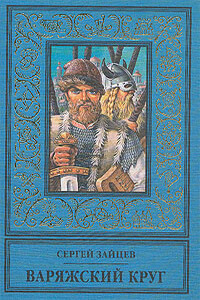Аверьян Минич в тот день превзошёл самого себя. Кушанье, им приготовленное, распространяло божественный аромат и имело вид в высшей степени благолепный. И всё бы получилось, как было задумано, отблагодарили бы старичка обильной трапезой, изысканным, будто с царской охоты, яством, да вот беда — давно уж не ел Дедушко мяса. Как ни уговаривали его, как ни нахваливали блюдо, — и близко к столу не подошёл. А вот мякиш хлебушка отломил да лопушком каким-то остался сыт. Много ли ему было нужно! Повспоминал молодость за нехитрой снедью, хлебные крошки из бороды вычесал пятернёю на ладонь, проглотил и признался: последний раз вкушал скоромное на поле под Полтавой — вскоре после известной баталии. Сам Пётр Великий жаловал его бараниной, запечённой на шведском шомполе. Повздыхал: давно то было. Тут Александр Модестович прикинул приблизительно, сколько Знахарю должно быть годков, и порядком подивился — невероятно старый гриб! А Дедушко уселся поудобнее и, знай себе, повествует: с годами усыхать стал, мослаки поистёрлись, укоротились; в молодые лета, однако, ростом был высок, под стать Петру, вот хотя бы как этот корчмарь, лешак бородатый, ей-ей! дюжего шведа на багинете поднимал запросто...
Наутро распрощались.
Опять двинулись за французской армией; по широкой Московской дороге пошли считать верстовые столбы. Нового проездного свидетельства не искали, ибо приметили, что проверяющие офицеры удовлетворялись и старым. Обманывали офицеров в три голоса: не нашли-де в разрушенном Смоленске канцелярии, потому не продлили бумаг. Да это было сейчас и не очень важно. Офицеры спрашивали свидетельства больше для острастки. Сотни и сотни отставших, бредущих возле обозов солдат (легкораненых, больных, дезертиров, принявших видимость больных и подобных) вообще не имели никаких бумаг. Неразбериха на дороге творилась несусветная. Но многим из тащившихся за обозами, да, должно полагать, и самим обозным, неразбериха эта явно шла на пользу, и потому она была неодолима.
Время текло, как песок сквозь пальцы. Дни мало отличались друг от друга: дорога, унылый пустынный пейзаж, биваки, кострища, шалаши, грубая еда, жара, дым, пыль столбом, кони, фургоны... Александр Модестович уже настолько привык к неустроенностям походной жизни, что жизнь иная, хотя бы та, какою он жил всего месяц назад, представлялась ему теперь неправдоподобно идеальной — слишком идеальной, чтобы быть естественной, и казалась прошлая жизнь с её размеренностью, основательностью, чистотой, беззаботностью, с учёбой и любовью, с мечтаниями — бесконечно далёкой, чужой даже, будто довелось подсмотреть её из чьего-то прекрасного сада, или жизнь эта была вовсе и не жизнь, а чудесный спектакль, сыгранный в эмпиреях актёрами в розовом (образ земных скрипучих подмостков, этого гнездовища страстей и тараканов, никак не вязался в мыслях Александра Модестовича с идиллией дома Мантусов). Герою нашему не однажды приходилось ночевать где-нибудь под кустом, в траве, полной снующих насекомых, в песке; не раз бывало, продолжая путь, всю ночь дремал в седле. Он удивлялся этой обнаруженной в себе способности: прежде ему не удалось бы заснуть и во мху. Но ныне он так изматывался за день да к тому же за время скитаний столь загрубел телом, что обрёл способность засыпать, едва смежив веки, в дичайших условиях — будь то в ветвях дуба, накрепко привязавшись к узловатому суку, или в огромном дупле, свернувшись калачиком, будь то на голой земле, под ветром, и под дождём, и с холодным полевым камнем под головою. И спал — не добудишься. Умывался росой или из лужицы, из ключа. По субботам устраивал «баню» — в какой-нибудь кстати подвернувшейся бочке или подходящем корыте; мылся щёлоком.
Времени для размышлений имел, как всякий человек в дороге, — знай себе, погоняй мысль мыслью, мечтания воспоминаниями. И, понятное дело, все мысли Александра Модестовича, и воспоминания, и грёзы были об Ольге, которую знал, кажется, всего мгновение, а догонял, как будто, целую вечность — так долго, что уж начал и забывать. Аверьян Минич, человек неразговорчивый, по обыкновению молчал; ежели за день словечко вымолвит — и то хорошо. Себе на уме, никому не помеха! Зато Иван Черевичник вдруг разговорился: всё сетовал на свою неграмотность, на свой скудный разум. Приставал к барину с вопросами, часто наивными (хотя наивность эта происходила не от слабости ума, а от отсутствия образования), порой с явными поползновениями на глубокомыслие (и первый философ пришёл от сохи!), но в основном неглупые. Смущала Александра Модестовича лишь исключительная широта интересов Черевичника: от сюжетов библейской истории до секрета приготовления пороха, включая медицину, астрономию, механику, математику и иные дисциплины. Задаваемые вопросы убеждали Александра Модестовича, что в «скудном разуме» Черевичника не существует сколько-нибудь заметной системы или основы, на коей, как снег на ветках, должно задерживаться чистое знание, но в то же время разрозненных обрывков этого чистого знания и несвязанных начатков его было в голове у Черевичника тьма тем. День за днём всё спрашивал-выспрашивал Черевичник, а однажды вдруг и сам выдал размышление (связалось-таки что-то!) — и такое, что могло бы, по мнению Александра Модестовича, сделать честь и учёному мужу; о богатстве: что есть богатство? что есть ценность?.. Ценности есть преходящие и непреходящие; от рождения до смерти — разные ценности; меняется обстановка — меняются и ценности, а перед смертью — всё обесценивается, лишь остаётся ценным покой души. Так и не иначе!.. Лишь значительно позже Александр Модестович понял, что мысли о богатстве не случайно беспокоили невинный ум этого доброго человека. Что же до неграмотности Черевичника, коей тот сильно тяготился, то её надлежало бы поместить скорее среди плодов лености и нерасторопности самого Черевичника, нежели относить на счёт неблагородного его происхождения или несчастливо подобравшихся обстоятельств. Александр Модестович напомнил, что Черевичник — человек свободный, и со свободой своей волен поступать как ему заблагорассудится: можно бить баклуши, а можно и чему-нибудь поучиться. И поелику разговор об образовании зашёл нешуточный, то Александр Модестович поспешил подкрепить свои слова убедительным примером: один из профессоров Виленского университета, некто Матусевич, — выходец из государственных крестьян кость от кости; предки его на господ спину ломали, а он теперь чад господских научает уму-разуму!.. И закончил маленьким наставлением: кто желает прозреть — прозреет, кто потянется к свету — тому нет препон, не остановят его ни кандалы, ни рогатки; известно, доброму человеку — всякий опыт на пользу, а время для совершенствования — целая жизнь; кто же без царя в голове, тот и без копейки в кармане, и не при деле — человек пропащий...