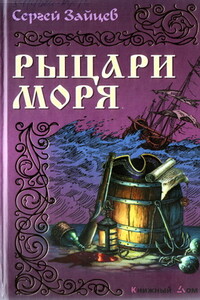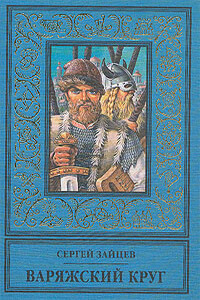«Входите, Анри!..» — был ответ.
Я вошёл и сказал первое, что высветилось у меня в сознании:
«Простите, мадам, я, кажется, забыл у вас курительную трубку».
«Да, конечно! Вы оставили её на постели», — ответила она, хотя отлично знала, что никакой трубки в её покоях (а тем более на постели) и быть не могло, ибо я не страдал пагубной привычкой курить табак.
Должно быть, недоумение отразилось у меня на лице. Пани Изольда улыбнулась и заперла дверь:
«Ищите же свою трубку!»
Последнее ясное размышление, которое меня в тот день посетило, было о том, что, стало быть, и среди полячек вошли в моду амуры с французами после романа императора и Марии Валевской.
«Я люблю вас, пани Изольда!..»
Приблизившись к ней, я начал искать — с нежностью, на какую только был способен, но и с уверенностью, которая мнится мне в известной степени необходимой, позволяющей мужчине обнаружить себя перед дамой человеком решительным, однако недостаточной для того, чтобы выглядеть ловеласом. Дурак бы я был, коли сию минуту не продолжал бы говорить что-нибудь о любви. И я нёс какую-то несуразицу, а какую — вряд ли припомню. В голове у меня тогда царило желание. Оно и запомнилось.
О, эти женские туалеты! Они наполняют любовную игру неизъяснимым очарованием! Препятствие и препятствием одолеваешь, идя к цели, и чувствуешь себя освободителем — желанным освободителем плоти, сути, связанной, безжалостно стянутой, застёгнутой, сокрытой под мёртвыми оболочками. Гы идёшь и идёшь и ощущаешь, как горячая плоть пьётся у тебя под пальцами, как от твоих прикосновений вскипает страсть, как от того, что ты делаешь, умная, образованная, благочестивая женщина становится распутной самкой, и тебя почему-то пьянит но, и вот, наконец, ты замираешь перед последней дверцей, перед последним замочком, за которым притаился сам дьявол, и ты знаешь, что там дьявол, однако со сладостным греховным восторгом, почти уж в беспамятстве, срываешь этот замочек и, влекомый дьяволом, пускаешься во все тяжкие...
Но, увы! Мои руки при немалой их сноровке заплутали всё же в бесчисленных застёжках, завязках, шнуровках и пуговках, и плутали бы долго, если бы пани сама не помогла мне.
О, трижды прав был мой Хартвик! Я убедился в тот день, что пани Изольда столь сатанински страстна, сколь с виду ангельски кротка. Истая дьяволица в постели — жаркая, гибкая, ненасытная плоть, любвеобильное молодое сердце, изголодавшееся за стариком по ласке, истомившееся по безумствам, ум окрылённый, гораздый на выдумку, — вот что такое теперь была моя Изольда. И я поражался самому себе: как я мог прозреть так поздно, как я мог так бездарно кружить возле прекрасного плода, — звенеть шпорами, крутить усы, — вместо того, чтобы без обиняков (чисто по-французски) взять его!
Мы выделывали на перине столь невероятные па, что если бы каждое из них каким-то чудесным образом запечатлелось в быстро растущих рогах пана Казимира, то рога эти приняли бы самые изысканные, быть может, даже неожиданные формы. Что ни день, рога ветвились, изящно завивались, отростки немыслимо переплетались, оттачивались и полировались, и всего за неделю нашей бурной любви достигли подлинного совершенства. Мы не сомневались: если бы они на самом деле появились, то, пожалуй, заслуживали бы чести быть помещёнными для всеобщего обозрения в музей естественной истории. Нежась в объятиях друг друга, мы на разные лады обговаривали эту роскошную мысль. Мы сочиняли надписи, какие поместили бы под столь редким экспонатом, мы придумывали фантастического зверя, чью голову мог бы увенчать сей предмет. Мы утончённо веселились... И презабавный вдруг вышел анекдот: пан Казимир действительно привёз из Люблина рога и повесил их в спальне над камином, но это были всего лишь рога оленя, хоть и довольно крупные. С тех пор мы не упускали случая прибавить к ним новый завиток, украсить их какой-нибудь подвязкой, тонким чулком или пеньюаром, пышным бантом и прочим.
Мы любили друг друга. Время шло, но наши чувства не притуплялись, мы были изобретательны в любви. В высоком накале страстей мы забывали порой об опасности, мы даже не всегда запирались на ключ, но Бог нас миловал, и это лишний раз подтверждало, что любовь наша — истинная любовь и едва ли не промысел Божий. Пан Казимир привык ко мне как к постояльцу и даже как будто симпатизировал мне. Его не настораживало то, что молодой французский капрал мог засидеться в будуаре его жены заполночь. Главное, чтобы он об этом знал. Пан Казимир, очевидно, считал, что если он знает о чём-то и все знают, что он о том знает, то пристойность непременно будет соблюдена. Увы, он глубоко заблуждался! И мы пользовались этим. У нас были свои понятия о пристойности. А он полагал, что мы, уединившись, читаем вслух французские романы, или штудируем французских энциклопедистов, или ведём душеспасительные беседы на предмет высокой морали... Пан Казимир иной раз даже нуждался в моём обществе. Бывало, он после вечернего моциона заходил ко мне пожелать покойной ночи. А пожелав, садился кряхтя на стул, и мы пускались в продолжительные политические дискуссии. За этим важным делом старик обыкновенно, глядясь в карманное зеркальце, выщипывал свои разросшиеся брови и выстригал кустики волос, торчащие из носа. Признаюсь, в такие минуты я тайно потешался над ним, равно как и над нашими дискуссиями. Но когда разговор заходил о несчастной многострадальной Польше, пан Казимир откладывал зеркальце и ножницы и речь его становилась напыщенной. Он считал себя горячим патриотом, он с гордостью упоминал о том, что в своё время был лично знаком с Тадеушем Костюшко.