«Бу-бу-бух! Бу-бу-бух! Бу-бу-бух!» — снова и снова бьет пушечка.
Она даже подскакивает на колесах. Но усилия тщетны. Перелет. Перелет. Недолет. Танк приближается. Его длинная пушка, похожая на вытянутый хобот слона, уверенно нащупывает цель.
Новая беда — снаряды кончились.
«В ров! За бутылками! За гранатами!»
Из ровика, видно, как танк с ходу наваливается на оставленную сорокопяточку, с ожесточением начинает крутиться на пушке, вминает ее в землю...
«Это я не сплю... Так, точно так все и было... Именно так...»
Он на секунду поднимает отяжелевшие веки, видит темную улицу и тут же снова закрывает глаза, отметив с радостью:
«Не сплю... Не сплю ведь... Как тихо на улице... Как много снега... Что это так громко тикает?.. Ах, это мои часы — подарок Сандро... Где-то он сейчас? Где Волжанские... Володька... Милый Володька... Николай... Марина...»
Он снова прислушивается к ходу часов.
«До чего громкий ход... Небось вся улица слышит?.. Верно говорил Сандро — ни у одних часов нет такого хода».
Он вспомнил, как с силой швырнул гранату, выглянул за бруствер... Целый и невредимый танк двигался прямо на ровик. Раздался вой снаряда, он пригнулся и почувствовал резкий удар в плечо... Сверху посыпались комья снега и земли...
И сейчас он чувствует удар по плечу. По плечу ударяют еще раз, потом начинают трясти за него.
«Что за чертовщина? Такого тогда не было. Я помертвел тогда, полузасыпанный, полуоглохший... А потом Москва, госпиталь... Сплю, что ли?.. Нет, не может быть...»
Раскрыть глаза уже нет сил. А за плечо все трясут и трясут. И откуда-то издалека слышится знакомый, постылый голос:
— Вот он, ваш любимчик, товарищ лейтенант, полюбуйтесь!
«Это говорит Снежков. Но при чем тут Снежков? И Горлунков. Их не было тогда в ровике... Меня сейчас откапывать должны... Их не было тогда...»
Осинского снова трясут за плечо. Он ощущает на лице чье-то дыхание.
— А что ты, ефрейтор, здесь делаешь?
Осинский, наконец, открыл глаза, увидел Снежкова, Горлункова, начхима, двух писарей.
— Что ты, ефрейтор, здесь делаешь? — ехидно, не скрывая радости, снова спросил Снежков.
Осинский сжал правую руку.
Винтовки не было. Он тут же почувствовал себя оглушенным частыми ударами собственного сердца. Похолодело в груди. Земля заколыхалась под ногами...
Не сказав ни слова, он отстегнул новенькие погоны, снял с себя ремень, протянул все командиру батареи и, ссутулившись, направился в караульное помещение.
Знакомый часовой, дежуривший у входа, посмотрел на него с тревогой и изумлением. Пройдя мимо часового, он сел на табуретку у окна, неподалеку от пирамиды с винтовками. Командир батареи устроился за столом. Осинский старался не встретиться с ним взглядом.
Громко, равномерно стучали ходики. Из казармы доносился чей-то храп. Было жарко.
Своим чередом шла смена караула. Солдаты, кто с сочувствием, кто с осуждением, кто просто с любопытством, смотрели в его сторону. Осинский сидел, ничего не замечая.
«Застрелюсь, — неожиданно решил он. — Иного выхода нет... Пирамида рядом... Магазин полный... Встану, протяну руку, нажму на спуск... И все. Нет! Нет! Что это я? Я же комсомолец... Пусть судят... Я заслужил!»
Издали послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и вошел командир полка.
— Караул! Смирно!
Осинский даже не поднялся.
«Уже утро... Уже новое утро... Может быть, последнее...» — думал он, холодея.
Командир батареи доложил о происшедшем.
— Что ж... Ясно... — задумчиво произнес подполковник, потерев ладонью синеватую, побитую порохом щеку, и сел рядом.
От его новой, чуть поскрипывающей портупеи приятно пахло кожей. Он молчал, глядя на Осинского. Тот встретился с ним взглядом, перевел его вниз, на сапоги подполковника, начищенные до блеска.
Было слышно, как за окнами солдаты скалывают скребками лед. Кто-то раскатисто захохотал. Потом прогромыхал грузовик. Стало тихо. Подполковник медленно, в задумчивости, перекатывал по столу толстый граненый красно-синий карандаш.
«Сколько же еще можно молчать? Пусть заговорит. Я ко всему готов», — подумал Осинский.
Подполковник отложил в сторону карандаш. Сказал наконец:
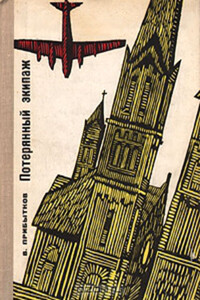
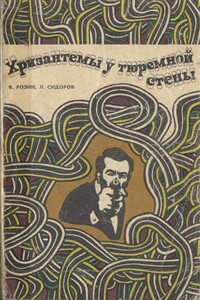

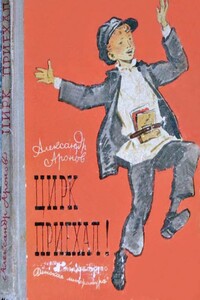


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
