Осинский и Снежков не выносят друг друга. И не только Осинский — все солдаты не уважают и не любят самодура лейтенанта.
Дело было еще в Коломне. Снежков дежурил по столовой. Добавку у него можно выклянчить только одним способом:
— Дебе можно, товарищ старший лейтенант? — подходит с котелком первый.
— Гм... — прячет самодовольную улыбку Снежков.— Я, правда, еще не старлей, но можно.
Подходит второй:
— Дебе можно, товарищ капитан?
— Гм... я, правда, еще не капитан, но давай котелок! Готовь, боец, ложку к бою!
Осинский же или просто лейтенантом называет, или вообще никак:
— Дебе можно?
— Хватит с тебя! В другой раз подходишь. Я те что, слепой?
— Ну и жлоб Ваня, — сказал как-то Осинский ребятам, возвращаясь к столу с пустым котелком.
Это услышал Снежков. Услышал и запомнил. В тот день ничего не сказал. Решил подловить на чем-нибудь. И подловил.
Как-то Осинский дежурил по казарме. Снежков кошачьей походкой вошел в комнату. Осинский не заметил, стоял на корточках спиной к двери — растапливал печку.
— Дежурный, почему не докладываешь? На «губу»!
А недавно произошло следующее.
Снежков дежурил по полку. Осинского назначили охранять самый дальний склад боеприпасов. Вечерело. Выл ветер, мела поземка. Осинский увидел Снежкова.
— Стой, кто идет?
Снежков молчал. Шел прямо на Осинского.
— Стой, кто идет?
Лейтенант ничего не ответил. Осинский щелкнул затвором.
— Стой, стрелять буду!
— Я те выстрелю...
Осинский выстрелил вверх.
— Ты что, обалдел? Это же я, Снежков, дежурный по полку. — И матом.
— Ложись! — крикнул Осинский. — Застрелю как собаку!
Снежков лег, крикнул:
— Ты, психа! Сейчас же вызывай начкараула!
— Не слышно будет. Пурга. Лежи давай! Сам психа!
Лейтенант пролежал на снегу лицом вниз довольно долго. Стало совсем темно. Пришла смена. Осинский доложил. Снежков идти пешком отказался.
— Несите меня! Несите прямо в санчасть! А его, сукина сына, — на «губу»! Он меня обморозил.
Осинского отправили под арест. Минут через двадцать привели к командиру полка.
— Что натворил? Докладывай!
Осинский доложил. Подполковник еле заметно улыбнулся, приказал:
— Из-под ареста освободить. Действовал правильно. Все по уставу. Можешь идти. Снежков где? Все еще в санчасти? А ну-ка, ко мне его. Живо!
С тех пор Снежков люто возненавидел Осинского.
Больше всего хохотал над этим происшествием маленький мариец. А особенно ему понравилась карикатура, которую Осинский нарисовал на Снежкова.
— Ой, Левка, не могу! Лопну, ей-богу, лопну со смеху! Ну, до чего похож! Действительно, жлоб, он и есть жлоб. Хоть бы ты и на меня на память карикатуру нарисовал.
— Зачем на тебя карикатуру? Я могу твой портрет набросать.
— Набросай, Левка, набросай. В полной солдатской выкладке. Я своей залетке в деревню пошлю. Только чтобы погоны были видны!
Мариец получился замечательно. Такой же щупленький, подвижной, чуть раскосые глаза, маленький курносый носик.
...Веки слипались. Осинский заставил себя широко раскрыть глаза, энергично затряс головой.
«Ну, до чего же хочется спать! Вот горе-то. Какие есть средства, чтобы не заснуть?.. Щипки?.. Уколы булавкой? Нельзя спать, нельзя», — уговаривал себя Осинский.
Но глаза слипались, голову тянуло вниз, болела шея. Подбородок то и дело утыкался в грубую холодную шинель на груди... Как и чеховской Варьке, ему казалось, что лицо его высохло и одеревенело, а голова стала маленькой, как булавочная головка...
Он снова встрепенулся, больно ударил себя кулаком в бок, в ребра, с силой протер глаза. Казалось, в них насыпали песку.
«Я должен на чем-то сосредоточить внимание, напрячь мысли, что-то начать вспоминать. Иначе точно — засну...»
И он тут же вспомнил бой под Тулой, тот страшный момент, когда прямо на их пушку двигался танк.
«Танк!» — с ужасом закричал тогда мариец.
Осинский одним глазом прижался к окуляру прицела, дрожащими от волнения руками схватился за маховики.
«Огонь!»
Он нажал па спуск. Пушечка резко дернулась назад. Тугой каучуковый наглазник больно ударил в переносицу. Резко запахло пороховым дымом.
«Перелет! Перелет!» — в страхе кричит Иван Иванович.
«Прицел семь!» — хрипло приказывает командир.
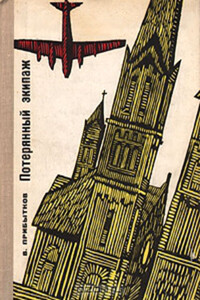
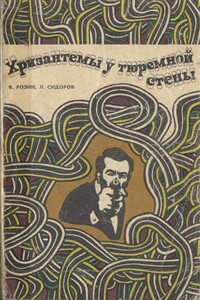

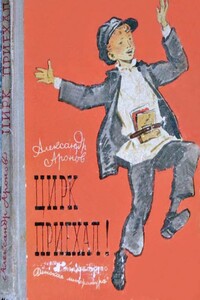


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
