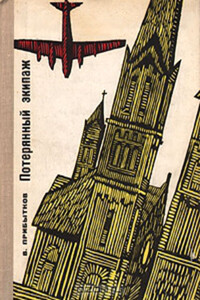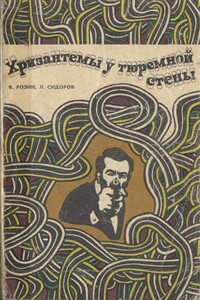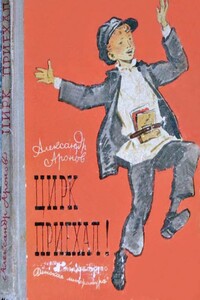— Пожалуйста, — сказал Цхомелидзе. — У нас в цирке еще есть безграмотные, но очень культурные люди... В основном из стариков. Есть, например, один дрессировщик лошадей... Фамилии называть не буду... Неплохой человек и дрессировщик хороший. Но, кроме своей конюшни, ничем не интересуется... Так вот... Проходили юбилейные пушкинские дни. В цирке устроили лекцию. Портрет Пушкина над оркестром повесили... Все как следует... А докладчик не простой, академик какой-то, пушкинист... В серебряных очках. В черной шапочке. Седой как лунь! Видно, очень знающий. Увлекательно рассказывал и про эпоху, и про царя, и про Дантеса, и про Натали... Кончил он свою лекцию. Все захлопали. Академик снял очки, потрогал свою бороду и говорит: «Ну, товарищи, слушали вы замечательно... Видно, что любите Пушкина... Может, у кого вопросы есть? Пожалуйста!»
«Только по существу», — тут же добавляю я.
Встает дрессировщик. «Спасибо вам, товарищ докладчик... Вы все очень интересно рассказали. Я все понял. Все замечательно! Теперь скажите в конце концов, когда же, наконец, при цирке откроют столовую?»
Все покатились от хохота.
Цхомелидзе продолжал:
— Всем страшно неловко. И я сам сдуру от волнения, черт меня дернул, чтобы как-то исправить положение, вдруг с бухты-барахты возьми да и выпали: «Товарищи! Предлагаю почтить память Александра Сергеевича Пушкина вставанием!»
Все снова дружно рассмеялись.
— Все мы тут же поднялись, — продолжал, улыбаясь, Цхомелидзе. — Стоим и стоим. Глядим, профессор тоже встал, снял с головы шапочку, опустил голову. Он стоит, и мы стоим. Долго так стояли. Тишина мертвая. Когда садиться, не знаем. Вдруг кто-то из акробатов с последнего ряда тихонько скомандовал: «Ап!» И все сразу сели...
До самого утра никто не ложился. Разговаривали с Мариной, пели ей песни, рассказывали анекдоты, забавные истории. И Левка рассказал про случай с Паничем в пивной.
Время от времени подбадривали Марину.
— Ну, Маринка, терпи, остался час!
— Терпи, Мариночка, через полчаса Ереван!
— А ну-ка, мужики, валяйте отсюда! — неожиданно резко скомандовала акушерка.
Поезд прибыл в Ереван. Никто не шелохнулся. За простынями что-то происходило, они колыхались, мелькали тени. Наконец, после громкого, протяжного стона Марины по всем простыням, точно на экранах, метнулась вверх тень новорожденного. Его за ноги подняла Фелисата Ивановна.
— Мертвый! — с ужасом успел шепнуть Сабине Левка.
Акушерка звонко шлепнула младенца.
— Я-а-а-а... Я-а-а-а-а-а-а... Я-а-а-а-а-а... — вдруг что есть мочи завопил он.
— Ты, ты, не перепутаем, — засмеялась акушерка.
Все облегченно вздохнули. Владимир выпустил Левкино плечо, заплакал. И тут же, словно передразнивая отца, снова громко заплакал младенец. Артисты засмеялись.
— Кто там? Мальчик? Девочка? — закричал Владимир.
— Наследник! Поздравляем! Дуй за шампанским! — громко закричала в ответ акушерка. — Слышишь, каким басом кричит? Шаляпиным будет!
— Нет, акробатом, — продолжая всхлипывать, совершенно серьезно ответил отец. — За шампанским сейчас сбегаю, а пока поглядеть мне можно на сына, на маленького на моего?
— Подожди! Ишь, прыткий! Рано еще!
— Кормит, наверное? — тихо спросил Левка.
— Что ты! Кормит. Так не бывает. Молока еще нет.
— А я читал один рассказ... — сказал Левка, — так там мать почему-то сразу кормила.
Фелисата Ивановна на секунду высунулась из-за простыни, сказала сердито:
— Много он знает, писатель твой! Одно слово, мужчина! Ему бы с нашим братом, с акушерками, посоветоваться прежде, чем про роды писать.
— А когда будет молоко? — спросил Левка.
— Через несколько часов.
Он тут же вышмыгнул из вагона и вскоре вернулся со свертком в руках.
— Куда ты пропал? — спросил Николай. — Пей шампанское! Оставили тебе.
— Спасибо, сейчас. Вот, передайте, Фелисата Ивановна, для маленького... — пробормотал Левка.
— А что тут такое?
— То, что ему можно... сгущенное молоко... Простого не было... И сок... морковный...
Все расхохотались.
— Ах ты, лапонька, — вытирала слезы умиленная акушерка. — Голубиная душа! Ты бы ему лучше селедочки принес...
Глава четвертая
НОВЫЙ ДРУГ — САНДРО ДАДЕШ