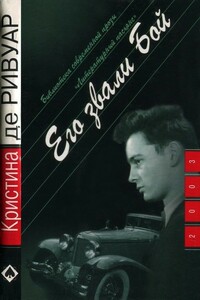Она не подозревала, как ждал Брудер этого момента: он сидел спиной к окну, в темноте не было видно его лица, и она пришла потому, что узнала, и удивлялась, почему никто, кроме нее, этого не узнал.
Брудер вытянул из-под кровати рюкзак и, как раньше, склонился, чтобы вынуть из него вещи.
— Это ее, — сказала Линда.
Его тень упала на Библию и на веер; она испугалась, когда он разжал ее ладонь и вложил коралловую подвеску.
— Нет, — ответил он. — Это мои.
— Но были ведь ее.
— Моей матери. А теперь — мои.
Линда ощущала, как легка, хрупка и холодна коралловая подвеска. Его твердое чувство собственника отпугивало ее, и она видела — он пойдет на все, чтобы защитить то, что, как он считал, принадлежало ему.
— Она знает? — спросила Линда.
— Не говори ничего, — ответил он.
Она не поняла.
— Разве обязательно все говорить?
Брудер взял подвеску и воткнул ее между губами Линды, как пробку в горлышко бутылки. Он хотел, чтобы она замолчала, хотел поцеловать ее, знал, что она хочет того же, и, когда матрас прогнулся сильнее и их ноги прижались друг к другу, а ее защищала лишь тонкая ночная рубашка, Брудер склонился над ней, подвеска выпала у нее изо рта и лицом она прижалась к нему — ведь Линде было шестнадцать лет и жить она собиралась по-другому, совсем не так, как теперь, — в этот самый миг раздался стук в дверь, на порог пролился лунный свет, Эдмунд сердито прищелкнул языком и произнес: «Линда! Когда же ты научишься оставлять его одного?»
Осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда память о войне стала исчезать, а осадка госпитальных судов в гавани Сан-Диего стала меньше, потому что раненые вылечивались и уходили с них, Линда вернулась в школу мисс Уинтерборн. В тот, первый, понедельник она отправилась в школу не одна — в шаге за ней шел Брудер. К ним присоединился и Эдмунд — ему нужно было на работу, в гостиницу, где он все лето простоял за дубовой стойкой и даже стер с нее лак рукавами своего пиджака.
Мимо проехала машина; за рулем был водитель в кожаных перчатках, а на переднем сиденье гордо восседал аккуратно подстриженный пудель. Водитель радостно посигналил, и из-под колес им под ноги полетел гравий. Всего лет шесть-семь назад дорога была такая узкая, что на ней умещались только повозка и маленький фордик с выдвинутым вперед капотом; а теперь резиновые шины проделали колеи по обеим сторонам дороги, прямо по покосу. Со временем дороге присвоят название и никто уже не вспомнит, что когда-то здесь пролегал пыльный проселок, годный только для лошадей.
Брудер опять удивил Линду, когда она спросила, хочет ли он пойти с ней в школу. Линда задала этот вопрос по одной простой причине — ей очень хотелось увидеть, как вздрогнет его лицо, когда он услышит ее голос. Он ответил: «Ладно, я пойду с тобой». После ночи в «Доме стервятника» между ними появилась какая-то неловкость, как оба думали, что ни он, ни она точно не помнили, что же там на самом деле произошло. Но хотя Линда помнила все совершенно точно, она была пока слишком молода и слишком занята обстоятельствами своей собственной жизни и просто не знала, как повторить ту ночь, тот лунный свет, те сокровища, разложенные между ними на матрасе. Эдмунд теперь не спускал с нее глаз, как будто искал новых доказательств неверности. Он шепнул Линде: «Смотри не наделай дел, как другие девушки». Линда не знала, что Валенсия сказала Брудеру, когда они одни стояли у тележки с луком: «Ей сначала нужно найти то, что она хочет. Дай ей только срок». Линда не знала, что Дитер волновался за Брудера так же, как и за нее.
Шли дни, недели, и в Линде росло томление; нежное, но настойчивое желание волновало ее плоть. Ей было любопытно, чувствует ли Брудер то же самое — но нет, с ним все было не так. В Брудере медленно росла любовь к Линде, но он старался ничем ее не выдать. Он жил в твердой уверенности, что никому ничего не должен, наоборот — это ему все должны. Брудер относился к своей власти так, как будто это монета у него в кармане. Он о ней почти не вспоминал, но знал, что она всегда с ним, позвякивает на ходу. Все шли к нему; в конце концов и Линда придет к нему снова. В своем будущем Брудер не сомневался; он научился терпению, потому что много раз в жизни видел, как губительно может быть нетерпение. По дороге домой из Франции Дитер сказал: «Когда вернемся в Калифорнию, я тебя не брошу». Это была сделка, честный расчет — как та, другая, которую Брудер заключил в березняке, — и Дитер с Брудером прекрасно понимали, что связало их. «Можешь поселиться у меня на ферме, — предложил ему Дитер. — Будешь делать что хочешь». К дочери это тоже относилось? Только Брудер с Дитером знали ответ на этот вопрос.